 Когда читала его "Журавлиные плясы", думала, какой же он - автор этих
светлых, пахнущих свежескошенным сеном строк.
И вот довелось познакомиться.
Иван Гаврилович Иванов, "Иван Иванов-Мстинский, русский из Пярну", так он
себя именует в шутку, у нас в редакции "Чела".
Моложавый, веселый, с прекрасным чувством юмора, привез много своих новых
произведений, одно из которых мы сегодня печатаем.
Друг Иванова, поэт Давид Самойлов, сказал о нем:
"Много видел, много знает. Много умеетю.
Я бы добавила: "Прекрасно чувствует Родину, бережет корни народной
культуры, радеет за чистоту слова."
Тамара Сигалова
Когда читала его "Журавлиные плясы", думала, какой же он - автор этих
светлых, пахнущих свежескошенным сеном строк.
И вот довелось познакомиться.
Иван Гаврилович Иванов, "Иван Иванов-Мстинский, русский из Пярну", так он
себя именует в шутку, у нас в редакции "Чела".
Моложавый, веселый, с прекрасным чувством юмора, привез много своих новых
произведений, одно из которых мы сегодня печатаем.
Друг Иванова, поэт Давид Самойлов, сказал о нем:
"Много видел, много знает. Много умеетю.
Я бы добавила: "Прекрасно чувствует Родину, бережет корни народной
культуры, радеет за чистоту слова."
Тамара Сигалова
Трансвааль, Трансвааль...
Иван Иванов
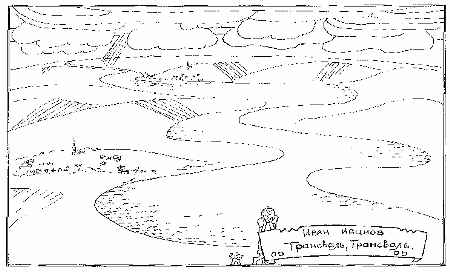 (Из начальной автобиографии - Автор)
Родился я в разломное для русской деревни время - в преддверии сотворения
колхозов, в 1929 году на берегу бегучей реки Мсты: среди болот ягодных и лесов
знатно грибных. А еще точнее: в веселой - во все времена - деревне Частова,
колхоз имени Ворошилова, в полста километрах от Града Великого (Новгород), еще
недавно, непролазными, кривыми дорогами до большака. И сносно обустроенными
уже на излете "застойных" лет, когда областное начальство - большое и малое -
вошло во вкус дачного сервиса, чему способствовала благоуханная мстинская
природа...
Рос в семье мастера деревянных дел высочайшей руки, поэтому и моими
любимыми запахами детства была мешанина, настоянная на сухом мореном дереве,
роговом клее, живичном скипидаре и вареном масле (натуральная олифа). Как
говаривал Манкошевский столетний столяр Разгуляй, который был с моим дедом
дружки-приятели: "Вдыхай с младенства такой дух и ты, непременно, станешь
Мастером!"
Не скрою, и мне кое-что перепало на этом семейном ристанье. От отца перенял
боготворение к - Его Величеству "Струменту"! После поделок я тоже с какой-то
истовостью "направляю" его: точу, развожу, наващиваю. И только после этого
водружаю его на свое место - "отдыхать" до другого раза, чтобы - когда надо -
снова взять в руки, по живучим словам все того же столяра Разгуляя, которого
уже давно нет: "Как гармонь в престольный праздник!"
Мой отец Гаврила Иваныч Иванов, что ж касательно дерева, право, был на все
руки - хват: плотник, столяр, колесник, бочар. А какие он гнул выездные,
свадебные дуги, про которые еще в деревне - не без гордости за мастера -
говаривали: "Чур, не оставляй на заулке - проезжий цыган украдет!" И за что бы
он ни взялся, все делал только - на ять, да еще и с какой-нибудь чудиной.
Прялку, коромысло ль бывало смастерит - обязательно положит на поделку резной
узор, как клеймо мастера.
И еще отец был горазд на песни, которых знал несметье и через это считался
первым запевалой деревни. Хотя он скорее был неверующим (как и мой дед,
который в оправдание своему прохладному отношению к церковным обрядам
говаривал: "Бог живет в каждом из нас, и судят о нем по его земным деяниям"; и
вместо того, чтобы стоять в заутрене перед образами при зажженных свечах, шел
с топором на плече к вдове или солдатке - поправлять крыльцо). Но он охотно
пел и на клиросе, пока не была разорена наша Манкошевская церковь - краса
дивная: она и по сей день стоит на том же месте. Только уже никого не радуя, а
как бы в укор безумному прошлому времени - без креста и колокольни. Печально
смотрится с зеленого угора в живое "зеркало" пока еще незамутненной, бегучей
Мсты, как бы вымаливая у опрокинутых в реку синих небес - прощения умершим и
вразумления живым...
И вот в пору благоденствия Манкошевской "красы дивной" ее приходской
батюшка, святой отец Василий, не раз говаривал своему уже возмужавшему
благонравному мирянину по прозванию Мастак:
- Сын мой, тебе не плотником быть, а впору б служить главным певчим
диаконом при градском соборе Святой Софии. Право, не голос у тебя, человече, а
сущая - иерихонская труба!
Оттого, что мужики по праздникам пели на клиросе, и слыла наша деревня во
всем мстинском побережье - дюже песенной. Бывало, на вечерней воскресной заре
запоют частовские у себя на Певчем кряжу, - и их голоса в слаженном спеве было
слыхать по течению чуткой реки - за двенадцать верст, в Полосах на мельнице.
Но чаще они пели зимними вечерами. На мужских посиделках у нас в отцовской
столярне (в прирубе между хлевом и домом), которая служила в деревне как бы
местным Наркоматом Иностранных Дел, где каждый - пахарь, лесоруб, столяр,
кузнец, шерстобит - смог бы сойти за наркома. Особо для такой должности
годился пастух-овчар Иван Наумыч с его апостольской длинной бородой с проседью
и благопристойным обличием святого Ионы Оттинского, именем которого был назван
монастырь на краю Красноборской пустыни.
Частовской овчар прожил долгую многотрудную жизнь - целое столетие, трудясь
в одной и той же ипостаси: с измальства и до последних своих дней: пас овец.
Они его чуть было и не погубили, когда он с бесстрашием, в одиночку, будто на
медведя с рогатиной, выступил в защиту исконной романовской грубошерстной
овцы-шубницы, когда лихие преобразователи вселенной насаждали по худосочным
колхозам северного края завезенных из Средней Азии курдючных баранов, которые
никак не хотели приживаться во влажном климате Предильменья - туберкулезно
кашляли и дохли. А на местных прытких барашков в ягнячью их пору было наложено
строжайшее табу. Их поголовно легчили под надзором районной ветслужбы.
Так во мстинском побережье была "вырублена под корень" романовская овца,
которая из веку в век служила в лесном крае становой жилой всего уклада жизни.
И от этой скорой порухи, не заставив долго себя ждать, в деревню, как-то уж
очень зримо, заявилась незваной гостьей сирая обездоленность. Вместо привычных
тулупов и полушубков сельчане стали обряжаться - в арестантские "куфайки",
вместо валенков в зиму - обулись в охламонистые резиновые чеботы, наживая
ревматизм. И до стыдобы было глядеть, как мужики - в мороз и вьюгу - голоручью
ехали в лес за дровами или на дальние Ильменские пожни за сеном. А главное,
больше не томились в обжаристых горшках, в загнетках печей запашистые "шти" с
бараниной, которые на второй день становились еще ядренее. Так бездумным
уничтожением романовской овцы селяне сразу лишились многих жизненных благ.
А супротивника чужеродной скотины, замахнувшегося вилами на огэпэушника,
сопровождавшего веткомиссию по легчению барашков местной породы, со словами во
святом гневе: "Убью, гепею-перепею!" - чуть было не сослали. Да не нашлось для
него такой чужбины, где бы "Макар коров не пас". А при нем потомственному же
пастуху такая высылка не грозила б неволей.
К тому же и деревня встала горой за своего непревзойденного мастера
берестяных дел. Лучше и краше его лаптей, ступней, заплечных кошелей, лукошек
- никто не плел в округе. Слыл он в деревне и как самый культурный муж! - без
претензий на какую-либо образованность: вместо личной росписи ставил крестик.
И поди ж ты, никто, даже поп местного прихода, так не жалел свою жену, как их
овчар. Не обращая внимания на насмехания сельчан, носил зорями на коромысле
воду из колодца своей "барыне" Ефросинье. На такую - по разумению частовских
мужиков - "постыдность" и поныне еще никто не снисходил в Частове.
Зато, когда он тихо отошел в мир иной, сразу все спохватились, что теперь
им будет недоставать благородного овчаря. Поэтому и похоронили его, как
"заслуженного" аборигена, наравне со старейшей учительницей Ниной Ивановной
Никитиной, со всеми почестями: с музыкой, востребованной из города. Этим ему
была оказана от благодарного частовского "обчества" как бы последняя ему
пастушья гостевая "череда" с признательными словами: "Пусть земля будет тебе
пухом, незабвенный наш Иван Наумыч. Аминь."
Вот такой-то всеми уважаемый человек (по призванию - овчар, прошедший в
жизни - огонь, воду и медные трубы) и коноводил до войны на мужских частовских
посиделках в столярне у Гаврилы Мастака за наркома местного НИДа. И по сей
день старожилы деревни помнят, с какой дипломатичной выходкой встревал он в
споры-разговоры, не исключая и мирового значения: "Покойничек, Петра Захарыч
(или: Кузьма Андреич), не даст соврать..." И пошел-поехал рассказывать были-
небыли из своей служилой молодости. И про сопки Маньчжурские, где "в одна тыща
девятьсот четвертого года ходил в штыковую на японский чудо-пулемет..." И про
"ерманский" плен - пятнадцатого года первой мировой войны, отбывая его у
"австрияков". Где за неоднократные побеги, чтобы пуститься "пехом" к снившимся
берегам своей бегучей Реки, беспортошного беглеца исправно и добросовестно, с
ритуальным обливанием холодной водой, порол в поте лица ременными вожжами -
больносердный к своим сытым лошадям - щекастый хозяин - "австрияк".
И за вечер-то, бывало, частовские мужики в горячих спорах - так и этак
перекроят мир, деля его на страны, которые, как им того хотелось бы, были "за
нас": это - Красный Китай, где уже какой год шла гражданская война с
Гоминьданом; Абиссиния - незнамо где находится; и (как бы мы сейчас ни
говорили, а тогда была для нас, особенно мальчишек) святая и героическая
Испания, в небе которой на стороне республиканцев сражался и частовской -
"Чкалов": доброволец, военный летчик-истребитель Николай Жуков. И на страны,
которые были "против нас": это - одноосная телега на трех колесах "Берлин-Рим-
Токио".
Обычно такие споры-разговоры заканчивались трогательной песней о каких-то
неведомых бурах, попавших в большую беду: "Трансвааль, Трансвааль, страна
моя!" Эту песню-сказ однажды привез мой дед по отцу Иван Иваныч Иванов (первый
грамотей и книгочей в округе) из - "Большой деревни" - Питера, куда ездил с
частовской плотницкой артелью на летние заработки. И всякий раз пели ее со
священным огнем в глазах, будто страна "Бурия", как называли тогда ЮАР,
находилась где-то за Красноборскими синими лесами и нуждалась в срочной
выручке частовских "санапа-лов "с дрекольем в руках.
Мне, тогдашнему дошколяру, всегда казалось, что эту песню я знал еще до
своего рождения, а, может, и родился прямо из нее...
Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне.
Под деревцом развесистым
Задумчив бур сидел.
- О чем горюешь, старина,
Чего задумчив ты?
- Горюю я по родине,
И жаль мне край родной.
Сынов всех десять у меня:
Троих уж нет в живых,
А за свободу борются
Семь юных остальных.
А старший сын, старик седой,
Убит уж на войне;
Он без молитвы, без креста
Зарыт в чужой земле.
Мой младший сын - тринадцать лет,
Просился на войну.
Решил я твердо: нет и нет,
Малютку не возьму.
Но он, нахмурясь, отвечал:
"Отец, пойду и я!
Пускай я слаб, пускай я мал -
Верна рука моя...
Отец, не будешь ты краснеть
За мальчика в бою -
С тобой сумею умереть
За родину свою!.."
Я выслушал его мольбу,
Обнял, поцеловал.
Малютка в тот же день со мной
Пошел на вражий стан.
Однажды при сражении
Отбит был наш обоз,
Малютка на позицию
Ползком патрон принес.
......................
На тех мужских посиделках мы, мальчишки, тоже были завсегдатаями. Мы росли
на них. Жались к отцовским коленям и клятвенно умоляли глазами: случись беда
со страной - война, и мы сделали бы то же самое, как и далекий "малютка" из
песни...
(Примечание: Во время англо-бурской войны (1890-1902 гг.) симпатии русского
народа были на стороне буров - народа, пострадавшего от нападения английских
колониалистов, что и обусловило появление этой песни.)
И все-таки Испания мне была ближе. Хотя бы потому, что наш частовской
"Чкалов", Николай Жуков, с моим отцом - были дружки-приятели по ЦПШа, как они
в шутку называли свою церковно-приходскую школу. Да еще и - герой! По
возвращении из Испании он - Жуковской закваски: толстогуб, смугл, да еще и до
черноты пропеченный на ненашенском солнце - приехал на побывку к себе в
деревню с тремя кубарями в петлицах и орденом "Красного Знамени" на груди. И
как тут было не втрескаться с первого взгляда нашей молоденькой городской
училке Зое Андреевне.
А уже через неделю в деревне - нежданно-негаданно - сыграли веселую
разливанную свадьбу, на которой частовской гость-герой подарил своему
закадычному дружку детства, и как запевале деревни, новую песню, которая,
казалось, и сложена была для могучего голоса моего отца. И когда мой отец
вывел первые его слова, по спинам разгоряченной застолицы забегали цепкие
холодные мураши, а в рамах окон нового клуба тоненько зазвенели стекла:
- Гренада, Гренада, Гренада моя!
И на подхват запевале частовские дружно загалдели:
- Горько, горько!
- Подсластить надоть!
Да, отец умел и любил не только от души работать, но и широко гульнуть. И
особенно на моих именинах, на которые приглашалась вся деревня.
Так в день моего рождения - 22 июня в сорок первом году - и застал вскопе
за столом, под яблонями-полудикарками, частовских мужиков срочный
военкомовский вестовой, прискакавший пополудни на взмыленной лошади, зычно
выкрикнув из седла:
- Мужики, шабаш веселью! Война уже с утра идет...
И Коленька Лещиков по прозванию - за свой малый рост - Наперсток (через это
он браковался для кадровой службы), видно, с радости, что и его черед пришел
послужить Отечеству, разудало пропел:
- Эх, пить будем, и гулять будем,
Смерть придет - помирать будем!
А седовласый вестовой с двумя кубарями в петлицах, уже спешась с лошади и
развернув давно заготовленные списки, громко и внятно выкрикивал:
- Абраменков Владимир Александрович!
- Ананьев Василий Иванович!
- Андреев Тимофей Афанасьевич!
- Васильев Иван Васильевич!
- Захаров Дмитрий Петрович!
И по всему-то алфавиту находились фамилии частовских мужиков и парней. Да
еще и не по одной, все больше по две:
- Голубев Александр Ионович!
- Голубев Филипп Ионович!
- Ильин Иван Дмитриевич!
- Ильин Александр Дмитриевич!
Дмитриевых Ильичей так трое и значилось: Василий, Павел, Николай! Столько
же сыскалось и Максимовых братанов Максимовичей: Осип, Иван, Александр!
А чернобровых Жучат (Жуковых) Николаевичей и того более, сразу уходило
пятеро: Тимофей, Никандр, Николай, Иван, Михаил! И это при живых-то еще
родителях... Каково же матери-то было пережить такую, свалившуюся на ее сивую
голову, беду-разлуку? Сколько ж надо было иметь на всех слез?
Боже, сколько ж мужиков-то было в довоенной Частове? И это не считая тех,
кто уже служил кадровую. И тех зеленых подростышей, которые теперь будут
уходить из деревни - слой за слоем - целых четыре года. И этот неотвратимый
отток человеческих жизней начнется уже очень скоро - через каких-то несколько
недель. Как только огненный вал войны пригрохочет к стенам Вечного Града. И
вслед за своими отцами и старшими братанами уйдут из деревни добровольцами и
семнадцатилетние.
До прихода сибиряков, которые с первыми морозами - в новых "с иголочки"
белых нагольных полушубках - надолго засядут в надежную оборону у Синего
Моста, частовские мальчишки, все до одного, погибнут в высоких травах
предыльменских пожен, захлопнув за собой тяжелую дверь в Вечность... Но
похоронки же на них в их деревню, до которой рукой подать, пойдут каким-то
кружным путем. Матери их получат только после войны. Видно, чья-то разумная
голова рассудила: пусть мертвые мальчики немного подрастут хотя б во Времени.
Все не так будет больно их матерям.
Но это будет потом... Сейчас же частовские мужики и парни - прямо из-за
именинного стола - только еще собирались на Великую бойню. И для многих - о
чем они еще боялись загадывать - поименно оглашенный, державный реестр живых
душ был уже поминальником...
Ленинградский военный округ в те годы значился прифронтовым, и сборы на
войну были недолгими. Уже на другой день вся деревня, от мала до велика -
матери с младенцами на руках, старичье с клюками в руках, - переправившись на
пароме, высыпали на заречный Новинский луг, где зелеными волнами ходили
высокие тучные травы, как никогда вымахавшие в этом году. Но они никого не
радовали. Да и не на сенокосную толоку срядились сегодня частовские косари с
заплечными сидорами на рушниках. На фронт уходили частовские косари. Среди них
мельтешил и вчерашний седовласый нарочный-военкомовец, беспрестанно крича
охрипшим голосом:
- Товарищи, выходи - стройся! - но его голоса из-за бабьего причитания
никто не слышал.
Мало того, гармонист Василий Ильич (по-деревенски - за его благонравие -
Васенька Ильин), словно себе наперед - на вспомин души, а может, и в укор на
недавнее братание с нацистской Германией (потешный договор о "ненападении"),
вскинул перед собой, как свадебную дугу, свою нарядную тальянку с медными
планками и такое залихватское выдал на прощание, что будь поблизости
Манкошевский погост - и мертвые поднялись бы из могил. Ну, как тут было
устоять на месте сдвуродным высоченным брательникам, холостякам-весельчакам:
Николаю Васину, деревенскому искуснику на всех струнных инструментах и
голосистому школьному учителю Алексею Голубеву. Схватившись за руки, они -
всему назло - пошли по лугу в размашистой паре выделывать своими великаньими
ногами скоморошьи кренделя и, будто в роги, трубно издивляясь:
- Русский, немец и поляк
- танцевали краковяк:
Поляк - поскользнулся,
Немец - улыбнулся, а
Русский - матюгнулся!
И опять послышался настойчивый голос охрипшего военкомовца:
- Товарищи!.. Ворошиловцы, выходи - стройся!
И опять никакого внимания на чрезвычайные государственные хлопоты. Все были
заняты - собою, родней своей, однодеревенцами.
"Оглохли, что ли, наши мужики и парни? - недоумевали мы, мальчишки, в душе
радуясь войне. - Теперь-то... раз частовские идут на фронт, будет фашистам
пузатым-рогатым (какими их рисовали тогда на плакатах) - и за Абиссинию, и за
Испанию - будет! Только жаль, что нас с собой не берут, а то еще и не так было
б!.."
И как бы в ответ на наше недовольство мы услышали могучий голос моего отца:
- Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне...
На голос запевалы деревни, отозвавшегося на увещевание военкомовца,
частовские мужики и парни, вырываясь из объятий матерей, жен, сестер, невест,
стали сбегаться кучно, как пчелы на жужжание своей матки начинают сбиваться в
отлетающий рой.
И вот высыпавшая на заречный луг деревня строго разделилась на два роя - на
неистово поющих мужиков и в беспамятстве плачущих баб. И когда мужичий рой,
видно, почувствовал, что набрал силу в песне, лохмато - медведем - шевельнулся
и покатился по лугу, приминая высокую траву, которая останется в это лето
нескошенной.
Так песня о каких-то далеких бурах и увела из Частовы - деревни русской,
деревянно-колхозной - подчистую всех косарей на войну.
За поющими мужиками вдогон двинулся обоз, в подводчиках которого были мы,
мальчишки, чтобы отвезти наших отцов, дядьев, крестных, старших братанов на
станцию Малая Вишера, а затем обратно пригнать порожние подводы.
За Новинским глубоким урочищем мужики расселись по телегам, и мы поехали на
войну. Мои попутчики допили - на посошок - прихваченные отцом с моих именин
пару поллитровок, но хмель никого не брал. И петь, видно, никому не хотелось,
молчать тоже - все говорили об оставленных незавершенными домашних делах:
- Как-то сей год управятся тут наши благоверные без нас?
- Надо ж было такому случиться: бабы наши только сшили себе ситцевые
сарафаны для страды, а мужики отбили косы, и нате - война!..
- Поди, знай, сумеем ли мы теперь управиться с военными хлопотами, хотя б к
уборке огородов, - сетовали новинские косари, все еще теша себя надеждой о
своем скором возвращении по домам с Победой "на чужой земле", как пелось еще
вчера в песне "Если завтра война..."
На станцию мы приехали уже с восходом солнца. Телегу поставили на заулок
дома одной из каких-то "поперечных" улиц. Моих седоков сразу же увел куда-то
военкомовец, который ехал с нами. А на его верховой лошади мне было позволено
восседать в настоящем кавалерийском седле. И за дорогу в каких только я -
мысленно - не побывал сражениях: всех врагов победил! Можно б нашим папкам и
оглобли заворачивать к дому, но они ушли на сборный пункт. Отец обещал придти
попрощаться. И велел потом ждать нашего председателя Егора Мельникова, с
которым и поеду домой.
От нечего делать я распряг лошадь и поставил кормиться ее к вчерашнеукосной
траве в телеге. А обследовав двор, по приставной пожарной лестнице
вскарабкался на конек крыши: чтобы определиться, где я нахожусь, но старуха,
копошившаяся на огороде, сердито пристыдила:
- Чай, не маленький, штоб по крышам-то лазить. Поди, за мужика у матки в
доме остался?
Посрамленный, я завалился в телегу, вперился остановившимися гляделками в
синее небо и стал ждать отца. А он все не приходил... Где-то неподалеку играла
духовая музыка, перекрывая станционные гудки маневровых "кукушек" и громовой
лязг буферов вагонов, спускаемых с "горки" (про "кукушек, буфера и горку" я
узнаю намного позже, когда в зрелые годы стану работать на "железке"
рефрижераторным механиком). Хотя и думал тогда о себе, что я - "вечный!", но и
не загадывал, что буду так долго жить - целых еще полстолетия. А для начала
надо было перемочь страшную войну, которая только разрасталась - у далеких и
неприступных, как писалось тогда в газетах, границ западных. "Далекие и
неприступные рубежи наши" вскоре окажутся - блефом.
(Из начальной автобиографии - Автор)
Родился я в разломное для русской деревни время - в преддверии сотворения
колхозов, в 1929 году на берегу бегучей реки Мсты: среди болот ягодных и лесов
знатно грибных. А еще точнее: в веселой - во все времена - деревне Частова,
колхоз имени Ворошилова, в полста километрах от Града Великого (Новгород), еще
недавно, непролазными, кривыми дорогами до большака. И сносно обустроенными
уже на излете "застойных" лет, когда областное начальство - большое и малое -
вошло во вкус дачного сервиса, чему способствовала благоуханная мстинская
природа...
Рос в семье мастера деревянных дел высочайшей руки, поэтому и моими
любимыми запахами детства была мешанина, настоянная на сухом мореном дереве,
роговом клее, живичном скипидаре и вареном масле (натуральная олифа). Как
говаривал Манкошевский столетний столяр Разгуляй, который был с моим дедом
дружки-приятели: "Вдыхай с младенства такой дух и ты, непременно, станешь
Мастером!"
Не скрою, и мне кое-что перепало на этом семейном ристанье. От отца перенял
боготворение к - Его Величеству "Струменту"! После поделок я тоже с какой-то
истовостью "направляю" его: точу, развожу, наващиваю. И только после этого
водружаю его на свое место - "отдыхать" до другого раза, чтобы - когда надо -
снова взять в руки, по живучим словам все того же столяра Разгуляя, которого
уже давно нет: "Как гармонь в престольный праздник!"
Мой отец Гаврила Иваныч Иванов, что ж касательно дерева, право, был на все
руки - хват: плотник, столяр, колесник, бочар. А какие он гнул выездные,
свадебные дуги, про которые еще в деревне - не без гордости за мастера -
говаривали: "Чур, не оставляй на заулке - проезжий цыган украдет!" И за что бы
он ни взялся, все делал только - на ять, да еще и с какой-нибудь чудиной.
Прялку, коромысло ль бывало смастерит - обязательно положит на поделку резной
узор, как клеймо мастера.
И еще отец был горазд на песни, которых знал несметье и через это считался
первым запевалой деревни. Хотя он скорее был неверующим (как и мой дед,
который в оправдание своему прохладному отношению к церковным обрядам
говаривал: "Бог живет в каждом из нас, и судят о нем по его земным деяниям"; и
вместо того, чтобы стоять в заутрене перед образами при зажженных свечах, шел
с топором на плече к вдове или солдатке - поправлять крыльцо). Но он охотно
пел и на клиросе, пока не была разорена наша Манкошевская церковь - краса
дивная: она и по сей день стоит на том же месте. Только уже никого не радуя, а
как бы в укор безумному прошлому времени - без креста и колокольни. Печально
смотрится с зеленого угора в живое "зеркало" пока еще незамутненной, бегучей
Мсты, как бы вымаливая у опрокинутых в реку синих небес - прощения умершим и
вразумления живым...
И вот в пору благоденствия Манкошевской "красы дивной" ее приходской
батюшка, святой отец Василий, не раз говаривал своему уже возмужавшему
благонравному мирянину по прозванию Мастак:
- Сын мой, тебе не плотником быть, а впору б служить главным певчим
диаконом при градском соборе Святой Софии. Право, не голос у тебя, человече, а
сущая - иерихонская труба!
Оттого, что мужики по праздникам пели на клиросе, и слыла наша деревня во
всем мстинском побережье - дюже песенной. Бывало, на вечерней воскресной заре
запоют частовские у себя на Певчем кряжу, - и их голоса в слаженном спеве было
слыхать по течению чуткой реки - за двенадцать верст, в Полосах на мельнице.
Но чаще они пели зимними вечерами. На мужских посиделках у нас в отцовской
столярне (в прирубе между хлевом и домом), которая служила в деревне как бы
местным Наркоматом Иностранных Дел, где каждый - пахарь, лесоруб, столяр,
кузнец, шерстобит - смог бы сойти за наркома. Особо для такой должности
годился пастух-овчар Иван Наумыч с его апостольской длинной бородой с проседью
и благопристойным обличием святого Ионы Оттинского, именем которого был назван
монастырь на краю Красноборской пустыни.
Частовской овчар прожил долгую многотрудную жизнь - целое столетие, трудясь
в одной и той же ипостаси: с измальства и до последних своих дней: пас овец.
Они его чуть было и не погубили, когда он с бесстрашием, в одиночку, будто на
медведя с рогатиной, выступил в защиту исконной романовской грубошерстной
овцы-шубницы, когда лихие преобразователи вселенной насаждали по худосочным
колхозам северного края завезенных из Средней Азии курдючных баранов, которые
никак не хотели приживаться во влажном климате Предильменья - туберкулезно
кашляли и дохли. А на местных прытких барашков в ягнячью их пору было наложено
строжайшее табу. Их поголовно легчили под надзором районной ветслужбы.
Так во мстинском побережье была "вырублена под корень" романовская овца,
которая из веку в век служила в лесном крае становой жилой всего уклада жизни.
И от этой скорой порухи, не заставив долго себя ждать, в деревню, как-то уж
очень зримо, заявилась незваной гостьей сирая обездоленность. Вместо привычных
тулупов и полушубков сельчане стали обряжаться - в арестантские "куфайки",
вместо валенков в зиму - обулись в охламонистые резиновые чеботы, наживая
ревматизм. И до стыдобы было глядеть, как мужики - в мороз и вьюгу - голоручью
ехали в лес за дровами или на дальние Ильменские пожни за сеном. А главное,
больше не томились в обжаристых горшках, в загнетках печей запашистые "шти" с
бараниной, которые на второй день становились еще ядренее. Так бездумным
уничтожением романовской овцы селяне сразу лишились многих жизненных благ.
А супротивника чужеродной скотины, замахнувшегося вилами на огэпэушника,
сопровождавшего веткомиссию по легчению барашков местной породы, со словами во
святом гневе: "Убью, гепею-перепею!" - чуть было не сослали. Да не нашлось для
него такой чужбины, где бы "Макар коров не пас". А при нем потомственному же
пастуху такая высылка не грозила б неволей.
К тому же и деревня встала горой за своего непревзойденного мастера
берестяных дел. Лучше и краше его лаптей, ступней, заплечных кошелей, лукошек
- никто не плел в округе. Слыл он в деревне и как самый культурный муж! - без
претензий на какую-либо образованность: вместо личной росписи ставил крестик.
И поди ж ты, никто, даже поп местного прихода, так не жалел свою жену, как их
овчар. Не обращая внимания на насмехания сельчан, носил зорями на коромысле
воду из колодца своей "барыне" Ефросинье. На такую - по разумению частовских
мужиков - "постыдность" и поныне еще никто не снисходил в Частове.
Зато, когда он тихо отошел в мир иной, сразу все спохватились, что теперь
им будет недоставать благородного овчаря. Поэтому и похоронили его, как
"заслуженного" аборигена, наравне со старейшей учительницей Ниной Ивановной
Никитиной, со всеми почестями: с музыкой, востребованной из города. Этим ему
была оказана от благодарного частовского "обчества" как бы последняя ему
пастушья гостевая "череда" с признательными словами: "Пусть земля будет тебе
пухом, незабвенный наш Иван Наумыч. Аминь."
Вот такой-то всеми уважаемый человек (по призванию - овчар, прошедший в
жизни - огонь, воду и медные трубы) и коноводил до войны на мужских частовских
посиделках в столярне у Гаврилы Мастака за наркома местного НИДа. И по сей
день старожилы деревни помнят, с какой дипломатичной выходкой встревал он в
споры-разговоры, не исключая и мирового значения: "Покойничек, Петра Захарыч
(или: Кузьма Андреич), не даст соврать..." И пошел-поехал рассказывать были-
небыли из своей служилой молодости. И про сопки Маньчжурские, где "в одна тыща
девятьсот четвертого года ходил в штыковую на японский чудо-пулемет..." И про
"ерманский" плен - пятнадцатого года первой мировой войны, отбывая его у
"австрияков". Где за неоднократные побеги, чтобы пуститься "пехом" к снившимся
берегам своей бегучей Реки, беспортошного беглеца исправно и добросовестно, с
ритуальным обливанием холодной водой, порол в поте лица ременными вожжами -
больносердный к своим сытым лошадям - щекастый хозяин - "австрияк".
И за вечер-то, бывало, частовские мужики в горячих спорах - так и этак
перекроят мир, деля его на страны, которые, как им того хотелось бы, были "за
нас": это - Красный Китай, где уже какой год шла гражданская война с
Гоминьданом; Абиссиния - незнамо где находится; и (как бы мы сейчас ни
говорили, а тогда была для нас, особенно мальчишек) святая и героическая
Испания, в небе которой на стороне республиканцев сражался и частовской -
"Чкалов": доброволец, военный летчик-истребитель Николай Жуков. И на страны,
которые были "против нас": это - одноосная телега на трех колесах "Берлин-Рим-
Токио".
Обычно такие споры-разговоры заканчивались трогательной песней о каких-то
неведомых бурах, попавших в большую беду: "Трансвааль, Трансвааль, страна
моя!" Эту песню-сказ однажды привез мой дед по отцу Иван Иваныч Иванов (первый
грамотей и книгочей в округе) из - "Большой деревни" - Питера, куда ездил с
частовской плотницкой артелью на летние заработки. И всякий раз пели ее со
священным огнем в глазах, будто страна "Бурия", как называли тогда ЮАР,
находилась где-то за Красноборскими синими лесами и нуждалась в срочной
выручке частовских "санапа-лов "с дрекольем в руках.
Мне, тогдашнему дошколяру, всегда казалось, что эту песню я знал еще до
своего рождения, а, может, и родился прямо из нее...
Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне.
Под деревцом развесистым
Задумчив бур сидел.
- О чем горюешь, старина,
Чего задумчив ты?
- Горюю я по родине,
И жаль мне край родной.
Сынов всех десять у меня:
Троих уж нет в живых,
А за свободу борются
Семь юных остальных.
А старший сын, старик седой,
Убит уж на войне;
Он без молитвы, без креста
Зарыт в чужой земле.
Мой младший сын - тринадцать лет,
Просился на войну.
Решил я твердо: нет и нет,
Малютку не возьму.
Но он, нахмурясь, отвечал:
"Отец, пойду и я!
Пускай я слаб, пускай я мал -
Верна рука моя...
Отец, не будешь ты краснеть
За мальчика в бою -
С тобой сумею умереть
За родину свою!.."
Я выслушал его мольбу,
Обнял, поцеловал.
Малютка в тот же день со мной
Пошел на вражий стан.
Однажды при сражении
Отбит был наш обоз,
Малютка на позицию
Ползком патрон принес.
......................
На тех мужских посиделках мы, мальчишки, тоже были завсегдатаями. Мы росли
на них. Жались к отцовским коленям и клятвенно умоляли глазами: случись беда
со страной - война, и мы сделали бы то же самое, как и далекий "малютка" из
песни...
(Примечание: Во время англо-бурской войны (1890-1902 гг.) симпатии русского
народа были на стороне буров - народа, пострадавшего от нападения английских
колониалистов, что и обусловило появление этой песни.)
И все-таки Испания мне была ближе. Хотя бы потому, что наш частовской
"Чкалов", Николай Жуков, с моим отцом - были дружки-приятели по ЦПШа, как они
в шутку называли свою церковно-приходскую школу. Да еще и - герой! По
возвращении из Испании он - Жуковской закваски: толстогуб, смугл, да еще и до
черноты пропеченный на ненашенском солнце - приехал на побывку к себе в
деревню с тремя кубарями в петлицах и орденом "Красного Знамени" на груди. И
как тут было не втрескаться с первого взгляда нашей молоденькой городской
училке Зое Андреевне.
А уже через неделю в деревне - нежданно-негаданно - сыграли веселую
разливанную свадьбу, на которой частовской гость-герой подарил своему
закадычному дружку детства, и как запевале деревни, новую песню, которая,
казалось, и сложена была для могучего голоса моего отца. И когда мой отец
вывел первые его слова, по спинам разгоряченной застолицы забегали цепкие
холодные мураши, а в рамах окон нового клуба тоненько зазвенели стекла:
- Гренада, Гренада, Гренада моя!
И на подхват запевале частовские дружно загалдели:
- Горько, горько!
- Подсластить надоть!
Да, отец умел и любил не только от души работать, но и широко гульнуть. И
особенно на моих именинах, на которые приглашалась вся деревня.
Так в день моего рождения - 22 июня в сорок первом году - и застал вскопе
за столом, под яблонями-полудикарками, частовских мужиков срочный
военкомовский вестовой, прискакавший пополудни на взмыленной лошади, зычно
выкрикнув из седла:
- Мужики, шабаш веселью! Война уже с утра идет...
И Коленька Лещиков по прозванию - за свой малый рост - Наперсток (через это
он браковался для кадровой службы), видно, с радости, что и его черед пришел
послужить Отечеству, разудало пропел:
- Эх, пить будем, и гулять будем,
Смерть придет - помирать будем!
А седовласый вестовой с двумя кубарями в петлицах, уже спешась с лошади и
развернув давно заготовленные списки, громко и внятно выкрикивал:
- Абраменков Владимир Александрович!
- Ананьев Василий Иванович!
- Андреев Тимофей Афанасьевич!
- Васильев Иван Васильевич!
- Захаров Дмитрий Петрович!
И по всему-то алфавиту находились фамилии частовских мужиков и парней. Да
еще и не по одной, все больше по две:
- Голубев Александр Ионович!
- Голубев Филипп Ионович!
- Ильин Иван Дмитриевич!
- Ильин Александр Дмитриевич!
Дмитриевых Ильичей так трое и значилось: Василий, Павел, Николай! Столько
же сыскалось и Максимовых братанов Максимовичей: Осип, Иван, Александр!
А чернобровых Жучат (Жуковых) Николаевичей и того более, сразу уходило
пятеро: Тимофей, Никандр, Николай, Иван, Михаил! И это при живых-то еще
родителях... Каково же матери-то было пережить такую, свалившуюся на ее сивую
голову, беду-разлуку? Сколько ж надо было иметь на всех слез?
Боже, сколько ж мужиков-то было в довоенной Частове? И это не считая тех,
кто уже служил кадровую. И тех зеленых подростышей, которые теперь будут
уходить из деревни - слой за слоем - целых четыре года. И этот неотвратимый
отток человеческих жизней начнется уже очень скоро - через каких-то несколько
недель. Как только огненный вал войны пригрохочет к стенам Вечного Града. И
вслед за своими отцами и старшими братанами уйдут из деревни добровольцами и
семнадцатилетние.
До прихода сибиряков, которые с первыми морозами - в новых "с иголочки"
белых нагольных полушубках - надолго засядут в надежную оборону у Синего
Моста, частовские мальчишки, все до одного, погибнут в высоких травах
предыльменских пожен, захлопнув за собой тяжелую дверь в Вечность... Но
похоронки же на них в их деревню, до которой рукой подать, пойдут каким-то
кружным путем. Матери их получат только после войны. Видно, чья-то разумная
голова рассудила: пусть мертвые мальчики немного подрастут хотя б во Времени.
Все не так будет больно их матерям.
Но это будет потом... Сейчас же частовские мужики и парни - прямо из-за
именинного стола - только еще собирались на Великую бойню. И для многих - о
чем они еще боялись загадывать - поименно оглашенный, державный реестр живых
душ был уже поминальником...
Ленинградский военный округ в те годы значился прифронтовым, и сборы на
войну были недолгими. Уже на другой день вся деревня, от мала до велика -
матери с младенцами на руках, старичье с клюками в руках, - переправившись на
пароме, высыпали на заречный Новинский луг, где зелеными волнами ходили
высокие тучные травы, как никогда вымахавшие в этом году. Но они никого не
радовали. Да и не на сенокосную толоку срядились сегодня частовские косари с
заплечными сидорами на рушниках. На фронт уходили частовские косари. Среди них
мельтешил и вчерашний седовласый нарочный-военкомовец, беспрестанно крича
охрипшим голосом:
- Товарищи, выходи - стройся! - но его голоса из-за бабьего причитания
никто не слышал.
Мало того, гармонист Василий Ильич (по-деревенски - за его благонравие -
Васенька Ильин), словно себе наперед - на вспомин души, а может, и в укор на
недавнее братание с нацистской Германией (потешный договор о "ненападении"),
вскинул перед собой, как свадебную дугу, свою нарядную тальянку с медными
планками и такое залихватское выдал на прощание, что будь поблизости
Манкошевский погост - и мертвые поднялись бы из могил. Ну, как тут было
устоять на месте сдвуродным высоченным брательникам, холостякам-весельчакам:
Николаю Васину, деревенскому искуснику на всех струнных инструментах и
голосистому школьному учителю Алексею Голубеву. Схватившись за руки, они -
всему назло - пошли по лугу в размашистой паре выделывать своими великаньими
ногами скоморошьи кренделя и, будто в роги, трубно издивляясь:
- Русский, немец и поляк
- танцевали краковяк:
Поляк - поскользнулся,
Немец - улыбнулся, а
Русский - матюгнулся!
И опять послышался настойчивый голос охрипшего военкомовца:
- Товарищи!.. Ворошиловцы, выходи - стройся!
И опять никакого внимания на чрезвычайные государственные хлопоты. Все были
заняты - собою, родней своей, однодеревенцами.
"Оглохли, что ли, наши мужики и парни? - недоумевали мы, мальчишки, в душе
радуясь войне. - Теперь-то... раз частовские идут на фронт, будет фашистам
пузатым-рогатым (какими их рисовали тогда на плакатах) - и за Абиссинию, и за
Испанию - будет! Только жаль, что нас с собой не берут, а то еще и не так было
б!.."
И как бы в ответ на наше недовольство мы услышали могучий голос моего отца:
- Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне...
На голос запевалы деревни, отозвавшегося на увещевание военкомовца,
частовские мужики и парни, вырываясь из объятий матерей, жен, сестер, невест,
стали сбегаться кучно, как пчелы на жужжание своей матки начинают сбиваться в
отлетающий рой.
И вот высыпавшая на заречный луг деревня строго разделилась на два роя - на
неистово поющих мужиков и в беспамятстве плачущих баб. И когда мужичий рой,
видно, почувствовал, что набрал силу в песне, лохмато - медведем - шевельнулся
и покатился по лугу, приминая высокую траву, которая останется в это лето
нескошенной.
Так песня о каких-то далеких бурах и увела из Частовы - деревни русской,
деревянно-колхозной - подчистую всех косарей на войну.
За поющими мужиками вдогон двинулся обоз, в подводчиках которого были мы,
мальчишки, чтобы отвезти наших отцов, дядьев, крестных, старших братанов на
станцию Малая Вишера, а затем обратно пригнать порожние подводы.
За Новинским глубоким урочищем мужики расселись по телегам, и мы поехали на
войну. Мои попутчики допили - на посошок - прихваченные отцом с моих именин
пару поллитровок, но хмель никого не брал. И петь, видно, никому не хотелось,
молчать тоже - все говорили об оставленных незавершенными домашних делах:
- Как-то сей год управятся тут наши благоверные без нас?
- Надо ж было такому случиться: бабы наши только сшили себе ситцевые
сарафаны для страды, а мужики отбили косы, и нате - война!..
- Поди, знай, сумеем ли мы теперь управиться с военными хлопотами, хотя б к
уборке огородов, - сетовали новинские косари, все еще теша себя надеждой о
своем скором возвращении по домам с Победой "на чужой земле", как пелось еще
вчера в песне "Если завтра война..."
На станцию мы приехали уже с восходом солнца. Телегу поставили на заулок
дома одной из каких-то "поперечных" улиц. Моих седоков сразу же увел куда-то
военкомовец, который ехал с нами. А на его верховой лошади мне было позволено
восседать в настоящем кавалерийском седле. И за дорогу в каких только я -
мысленно - не побывал сражениях: всех врагов победил! Можно б нашим папкам и
оглобли заворачивать к дому, но они ушли на сборный пункт. Отец обещал придти
попрощаться. И велел потом ждать нашего председателя Егора Мельникова, с
которым и поеду домой.
От нечего делать я распряг лошадь и поставил кормиться ее к вчерашнеукосной
траве в телеге. А обследовав двор, по приставной пожарной лестнице
вскарабкался на конек крыши: чтобы определиться, где я нахожусь, но старуха,
копошившаяся на огороде, сердито пристыдила:
- Чай, не маленький, штоб по крышам-то лазить. Поди, за мужика у матки в
доме остался?
Посрамленный, я завалился в телегу, вперился остановившимися гляделками в
синее небо и стал ждать отца. А он все не приходил... Где-то неподалеку играла
духовая музыка, перекрывая станционные гудки маневровых "кукушек" и громовой
лязг буферов вагонов, спускаемых с "горки" (про "кукушек, буфера и горку" я
узнаю намного позже, когда в зрелые годы стану работать на "железке"
рефрижераторным механиком). Хотя и думал тогда о себе, что я - "вечный!", но и
не загадывал, что буду так долго жить - целых еще полстолетия. А для начала
надо было перемочь страшную войну, которая только разрасталась - у далеких и
неприступных, как писалось тогда в газетах, границ западных. "Далекие и
неприступные рубежи наши" вскоре окажутся - блефом.
 Потом-то стратеги наши будут валить на "внезапность". Вранье все это, как
покажет время. Даже мы, тогдашние мальчишки, знали про то, что к нам грядет
война. Играя в Чапая, мы ею уже жили. Да что там, про себя скажу: я даже
читать выучился до школы по газетным сводкам - из Китая, Абиссинии и Испании.
...Я - отрок двенадцати лет от роду - живой свидетель того грозного
времени, лежал в телеге, вслушиваясь в голоса частовских певцов, особливо от
других "хоров" дравших свои глотки в полюбившейся им песне:
- Да, час настал, - тяжелый час
Для родины моей.
Молитесь, женщины, за нас,
За ваших сыновей!
Молитесь, женщины, за нас,
За ваших сыновей!
И опять пели сначала:
- Трансвааль, Трансвааль...
Не знал я тогда, не догадывался - не к добру выйдет для наших
однодеревенцев их неуемная ретивость. Немногим из них суждено будет вернуться
домой - ни к Покрову, как им мнилось по дороге в райцентр, ни через четыре
года Великой войны, которая лично мне еще навсегда испортила и день
рождения...
А рядом мирно хрумкала лошадь, напоминая шуршание грибного дождя по
драночной крыше. Может, поэтому мне и блазнилось, вернее, уже снилось, как я
ходил с отцом в его любимый - неблизкий от деревни - бор Барская Нива.
Я любил с отцом наедине бродить по нашим заповедным местам. Он никогда не
считал меня маленьким, всегда затевал какие-то игры, которые ему и самому
"ндравились". Бывало, идем ранним утром по берегу реки, занавешенному живым
пологом плывущего по течению молочного тумана, он вдруг спрашивает: "Сынка, а
ну, быстро ответь - какая сщас рыбина брязнулась на перекате?" Заходим в
бисерно-росный калинник - опять вопрос: "А ну, скажи, какая тут птаха тенькает
краше?" Или, возвращаясь с дальних Березуг, куда всегда ходили на излете осени
ранними утрами за белыми груздями, он невольно сам засмотрится на ошпаренные
первыми утренниками осинники и вслух подумает: "Экая красотища полыхает!"
Сейчас же мне снился наш заветный кондовый сосняк Барская Нива, в подножье
которого стлался иссиня-белесый, как первоапрельский ноздреватый наст,
хрусткий мох, а на нем - то там, то сям - уже чудились коричневые шляпки...
Отец стянул с головы кепку и, вдыхая, будто церковный ладан, смолистый дух
бора, сказал:
- Ты только, сынка, погляди: не лес - храм пресветлый! - и он широко
показал своей большущей ручищей на веероусые надрезы подсочки на могучих
лесинах, походивших на врезанные в их живое тело старые доски икон, с которых,
казалось, вот-вот проглянет строгий лик святого угодника. А конусообразные
глиняные горшочки для сбора живицы и впрямь смахивали на горящие лампады:
стекавшие в них "слезы" смолы вспыхивали огоньками, когда их касались
колеблющиеся лучи солнца, пробиваясь сквозь ветки макушек. И, видно от
нахлынувших возвышенных чувств, отец вдруг запел:
- Боже, царя храни...
И кондовый, самоварный, сосняк в лад ему отозвался каким-то струнным эхом:
"...ни-и!" - которое как бы подхватило меня, будто оброненное куропаткой перо,
и легко понесло в кудрявые выси макушек. И вот, уже находясь в зеленом
небытии, я то ли со страху, то ли от охватившего меня восторга, вдруг
заплакал, услышав в яви голос отца:
- Что с тобой, сынка? - Пребывая все еще во сне, мне помнилось, что я лежу
на дне глубокого колодца, а на меня... из-под белого плывущего облака по-
сродственному вглядывается архангел Гавриил, продолжая будить меня голосом
моего отца. - Да очнись же ты, сынка, это я - твой папка...
Мой отец, верно, очень смахивал на своего небесного тезку на треснутой
темной доске в переднем углу. Строгое костистое лошадиное лицо, и нос, не
такой, как у наших матюжных мужиков - "картошкой" на конопатых обличьях, был
благородный: тонкий с горбинкой, будто у Божьего воина с копьем...
Помню, он даже и коня мне, маленькому, смастерил из свилеватого комля осины
в серых "живых" яблоках, похожим на себя. Через это его, Мастака, я иногда еще
в шутку называл: "Конь ты мой Горбоносый!" Только в плечах был не в пример
иконе - зело широк: косая сажень! А кулаки так и вовсе - гири-двухпудовки.
Поэтому он и не дрался никогда в престолы на стороне частовских "санапалов",
отшучиваясь, показывая свои кулачищи: "Не убивать же мне чужаков - пускай
живут и поют песни!"
- Папка, ты так долго не приходил, что я во снях тебя увидел, - наконец
очнулся я от наваждения. - На Барскую Ниву ходили ломать белые. - (Частовские,
истовые грибники никогда не скажут "резать грибы", хотя и ходят в лес с
ножами. А только: "ломать!" Право, "белые" растут у нас, как говорят в
деревне, до того "запестоватыми" да упругими, которые, воистину, надо "ломать"
с треском.)
- Да все не отпускали, сынка, - повинился отец. - Вот и пришел-то на какую-
то минуту. Вагоны уже поданы - сщас посадка начнется, и паровоз стоит под
парами.
И, отгоняя все печали, помечтал несбыточно:
- А дивья б, сынка, нам вместях сходить на прощание на Барскую за белыми-
то. Поди, знай, доведется ли еще когда мять наши боровые сивые мхи.
- Конь Горбоносый, ты чего? - приструнил я его по-взрослому, на что он
намекает. - Лучше на прощание давай, как когда-то, поборемся понарошке.
- Теперь, сынка, папке твоему будет с кем бороться и не "понарошке", -
тяжко вздохнул отец и ошарашил меня незнакомыми словами, от которых повеяло
холодом. - Раз объявлена тотальная мобилизация, тут шутки прочь!.. А теперь
давай слезь с телеги и запряги лошадь, а я посмотрю, как ты умеешь.
- Сам знаешь, что умею, - буркнул я, боясь разреветься.
- Хорошо, сынка, - пощадил мое самолюбие отец. - Тогда хоть на прощание
давай это дело сладим вместях.
Я завел лошадь в оглобли и стал закладывать тяжелую рабочую дугу, которая
оказалась мне не по силам - вывернулась из рук и другим концом больно ударила
прямо по лодыжке ноги. Я запрыгал-заплакал, но уже от другой боли. Я вдруг
остро осознал, что сейчас мой Конь Горбоносый уйдет от меня навсегда. И отец,
видно, подумал об этом же. Сломавшись, как расхлябавшийся складной плотницкий
метр, он с каким-то внутренним стоном рухнул на колени и, скрывая
навернувшиеся слезы на глазах, крепко прижал меня к своей бугристой груди...
Так я во второй раз в своей жизни увидел его в слезах.
...Впервые такое с ним приключилось в лихую годину - в зиму с тридцать
седьмого на тридцать восьмой. В бытность его "временного"
председательствования. В постоянные же "преды" колхоза он никак не соглашался.
Да и не подходил ни с какой стороны, ибо считался - белой вороной, то есть
помимо Мастера деревянных дел слыл в деревне еще и притчей во языцех, как
"беспартийный большевик": много работал, жил по правде и с однодеревенцами был
в ладу, по-людски. А ежели дело доходило до чарки, ему ставили - его
знаменитую кружку "РККА" (Рабоче-Крестьянская Красная Армия), чтобы уровнять
его с собой. Иначе, если пригубливаться наравне, он - сидит трезвехонек, поет
песни, а они, уже осоловелые, вот-вот уберутся под стол, чтобы утром,
бахвалясь, рассказывать о том, чего не помнят: "Вот вчерась гульнули, так
гульнули!"
А то, под настроение, такой-то семипудовый мужичище-сбитень пустится в пляс
- вприсядку. Особенно под Никанорычеву тальянку - "Пиесу-Барыню", аж половые и
потолочные матицы ухали ему в лад!
Сколько я помню то время, отца постоянно "сватали" в партию, а он все
отнекивался:
- Пока, дорогой товарищ, я до этого - не дорос, не дозрел. Да и то правда -
некогда мне рассиживаться на собраниях. Кто ж за меня будет махать топором,
ежель я подамся в краснобаи?
На что однажды один ретивый райкомовский уполномоченный (которых после
войны уже нарекут "толкачами") на его очередной отказ вступить в ряды ВКП(б)
раздраженно высказал ему:
- Однако ж, ты, Мастак, как я погляжу - размазня на постном масле... Не
понимаешь, в какое время живешь. Гляди, не пожалей...
- Нет, пока до этого я еще - не дорос, не дозрел, - гнул свое отец,
замороченный темными намеками прилипчивого наставителя.
Но, как Мастак ни упрямился, ни упирался, а задвинули-таки его в
председатели с оговоркой по его настоянию - с записью в протоколе общего
собрания: "временный".
Так, не по своей воле, его отрешили от любимого дела - с утра до вечера, в
жару и стужу - махать топором да перекатывать бревна, как карандаши. Двумя
годами ранее за строительство - "образцовых" - коровника и конюшни он, как
бригадир плотницкой бригады, на областном слете ударников был премирован
патефоном Первого гатчинского завода с тремя пластинками в придачу: "Дударь,
мой дударь", в исполнении Ольги Ковалевой; шотландской застольной "Выпьем, ей-
Богу, еще!" и боевым маршем в честь дальневосточного командарма Блюхера,
награжденного орденом "Красного Знамени" N1, "Бейте с неба, самолеты, - в бой
идут большевики!" И тот же марш сразу стал для частовских мальчишек любимой
песней - уж больно она задорно горлопанилась и шлепко топалось под нее босыми
следами...
После того, как первого частовского председателя Егора Мельникова какая-то
страшная болезнь - парализовало всю правую сторону тела - уложила надолго в
областную клинику, дела в колхозе имени Клима-Лошадника круто покатились под
гору. За это время сменилось несколько председателей - и все не в коня корм.
Да и кормить скотину в ту зиму, когда отец принял разоренное хозяйство, в его
"образцовых" коровнике и конюшне было нечем. И поневоле ворошиловцам во главе
с новым председателем-плотником пришлось стать застрельщиками по нововведению.
Вместо сена стали задавать в ясли гольем "витамины": еловый лапник и березовые
голики.
Надо было готовиться к весеннему севу - пахать-боронить, а изморенных
донельзя, облишаенных лошадей нещадно косил страшный мор - сап с мытом. На
деревню был наложен строжайший карантин, по которому - ни выехать, ни въехать
не моги в Частову...
Из песни слов не выкинешь: не лучшим было и прошедшее лето. От зачумления
людей революционным "зудом" деревня недосчиталась трех непоследних мужиков. И
первым пал длинноногий, как журавель, Яков Прокофьев, по-деревенскому
прозванию: Бело-Красный. Бывший кавалерист Белой и Красной армий,
заупрямившийся в свое время - со всеми вместе - "дружно" вступить в колхоз, а
стало быть и встать в первые ряды ворошиловцев. Может, и одумался бы упрямец -
вступил по доброй воле в колхозные чертоги, куда ж деваться человеку, как
загнанной в засеку лошади, если, куда ни глянь, будто в песне: "Все кругом -
колхозное, все кругом - твое!" И тут же про себя талдычил: "Только - не свое,
и не мое..."
Но он сам подторопил свою планиду-злодейку. Как-то перед Спасом, после
полуденного воскресного чая с черничными сканцами, выкатился из-за стола к
себе в подоконье - освежиться на воздухе, и видит такую картину. По всему краю
деревни издивляются сельчане, вперясь гляделками в чистое небо. А старухи, так
те крестились, словно перед кончиной света, видя, как на деревню, со стороны
леса Борти, будто бы с поля выплывала огромная светло-мышастая корова-барка с
отвислым грузным выменем, которым, казалось, сердешная, вот-вот заденет за
шишаки ельника. На наеденном круглом боку отчетливо виднелось клеймо из
больших синих букв, которое сипло считывал - выказывая, каков он грамотей! -
старый бобыль Ероха, не знамо откуда прибившийся к деревне:
- Сы Сы Сы Ры... (вот и догадайся, какой светло-мышастый зверь крался к
деревне из "Гнилого угла"?)
И тут Бело-Красный, бывалый рубака всех последних войн, зычным голосом внес
ясность:
- Не дрейфьте, православные! Это дирижабль летит... - И, зло сплюнув,
съязвил, скорее по привычке, чем для чужого длинного уха. - Ишь, раскатывается
партейная неработь по небу букашками.
И верно, вместо вымени в подбрюшье "коровы-барки" висела корзина, из
которой выглядывали, как грибы, какие-то человечки.
- Ох уж эти большевички, - продолжал негодовать бывший бывалый рубака. -
Раскатываются по небу себе в удовольствие, а то, что на земле лошади дохнут от
заразы, им - хоть бы хны!
Эти слова были кем-то услышаны и доложены - куда следует в свободном
пересказе: Бело-Красная долговязая калягань прилюдно обзывал, мол, отважных
большевиков - "букашками".
Так строптивый Яков Прокофьев (стоявший грудью в первую мировую войну за -
царя-батюшку, в революцию занял сторону - большевиков, в гражданскую махал
шашкой направо и налево сперва за - белых, затем за - красных; потом снова за
- белых, и снова за - красных) из-за вздорного характера и не доносил
форсистые штаны с лампасами. Бедолага по простоте своей укатил, будто в
ночное, в недобрый час, на "бешеном воронке" в - Никуда. И сразу с концами,
оставив на краю деревни, в крашеном доме, чернявую жену Веру из плодовитого
древа Жуковых (сестра пятерых братанов и мать пятерых детей, мал мала меньше).
Вдогон Бело-Красному оракулу прокатились на том же "бешеном воронке" вскоре
и Никитины: медвежатый отец Матвей-Молчун и его женатый рослый красавец сын
Николай, который от Бога был еще и заядлым лошадником. Он и в колхоз-то
вступил только из-за своего холеного жеребца Циклона, обобществленного
закоперщиками новой "жисти" на разжив-почин свежеиспеченного колхоза...
Боялся, что тот попадет в чужие нерадивые руки. И златогривый любимец погубил
своего бывшего хозяина в его новой ипостаси. В необузданной страсти при его
могуте он оказался не по силам лягливой кобыленке с расхристанного подворья
бывшего частовского предкомбеда. Чагривая темно-пепельной масти, после
покрытия жеребцом Циклоном, сделала выкидыш. И вся вина в этом пала на
молодого завконефермы - за его "родственные связи" с производителем. Ясное
дело, что тут таился какой-то враждебный кулацкий подвох.
И укатали частовского красавца-лошадника его благие помыслы (хотел через
своего жеребца в паре с чагривой вывести особую породу лошадей - колхозную!)
по вымощенной дорожке в ад. Переворачиватели мира не посчитались, что жена
Николая Матвеевича, Нина Ивановна, как порука мужу, была деревенской
учительницей, вразумляла начальной грамоте их же неслухов. Нет, не
посчитались!
Это случилось летом - на Казанскую. А после Покрова, темной ночью, умыкали
из деревни и его медвежатого отца. Матвей-Молчун всегда слыл в деревне
справным мужиком, хотя бы потому, что ел свой хлеб до нови.
В доколхозное время он с зари до зари "зверюгой" корчевал на вырубках пни -
готовил пашню. Через это летом, экономя время, даже не ходил в баню -
обходился рекой. Но вот на уговоры же вступить в колхоз, чтоб уже ломить
сообща - стократной силой, на него находило какое-то затмение. Казалось,
мужика вот-вот хватит столбняк - мычал что-то невразумительное: "Знаш-понимаш,
понимаш-знаш, обченаш..." Вот и весь его был ответ на "обчественное" ведение.
Собрание хохотало и с миром отпускало домой. Ступай, мол, тугодум, и покумекай
еще раз у родной печки, может, она что-то и присоветует тебе, как дальше быть?
Так и жил мужик в тревоге.
Но вот на державном олимпе новые боги мудро и решительно начертали: "Кто не
с нами, тот - против нас!" И когда раскаты их громов докатились до берегов
бегучей реки, не стало на частовских нелегких белых подзолах трудяги-Молчуна.
Да, пропал земляной червь, Матвей Никитин, ни за понюх табаку...
Вот в какое, видно, спосланное самим Богом, проклятое время взвалил на свои
могутные плечи бремя забот мой беспартийный отец, пока выдвиженец райкома,
срочно принятый в ряды ВКП(б), проходил председательскую выучку в областной
Совпартшколе.
Но как бы там ни было, жизнь в деревне на этом не кончилась. Плохо, хорошо
ли, весной отсеялись в сроки. Памятуя о прошедшей зимней бескормице, и к
сенокосу подошли серьезно. Тут, видно, сказалась заслуга нового председателя-
плотника, который, готовясь к луговой страде, сделал перенасадку своей косы на
литовку самого большого размера, а само косовье пустил длиннее обычного. А
когда подоспела пора отбивать на заулках косы, он не стал созывать общее
собрание, как было принято, а пошел по подворьям, где в разговорах с хозяевами
напоминал им крестьянскую заповедь, уже напрочь забытую в колхозное время:
"Коси, коса, пока роса: роса долой - косарь домой". И от себя добавлял: "Да и
косить по холодку под задорные наигрыши дергачей - азартнее выйдет!"
А на восходе солнца он встал впереди косарей и пошел, враскорячь, махать
литовкой двойным прокосом, благо силушкой не был обижен Богом. Ну, а для
настроения во время перекуров у него, запевалы деревни, про запас имелись
песни. А без них - какой же сенокос на Руси?
В то лето - на удивление - не подкачал и лен. Когда его поля разлились
голубыми озерами цветения, председателю-мастеру втемяшилась в голову затея -
замахнуться на деревянную машину. Да не на какую-то там самоделку-безделицу,
что-то вроде "вечного двигателя". А на самый что ни на есть настоящий агрегат-
льнотрепалку, приводимую от конного привода, чертеж которой был напечатан во
всесоюзной газете "Соц. Земледелие".
Помимо всего прочего, что мог сделать столяр-плотник, нужны были крепежные
болты и простейшая ременная трансмиссия для передачи вращения от конного
привода к двум брусам-валам с посаженными на них по четыре маховых деревянных
колеса, к которым крепились бы нагелями по восемь тонких изящных трепал... Тут
хоть имей пять пядей во лбу, а без кузнеца не обойтись...
С такой вот непростой заботушкой в разгар лета, ближе к вечеру, и пожаловал
с поллитровкой в кармане частовской председатель-косарь в Заречье. На бывший
столыпинский отруб Новинка в двух верстах от деревни - вниз по течению к
известному, как и он, всей округе мастеру, но уже железных дел, Ивану-Кузнецу.
И там у них, за хлебосольным столом, состоялась тайная "вечеря". На то был
свой резон. В том крутом году им, уважаемым селянам, настрого было заказано
что-либо делать помимо колхозной работы: одному - строгать, другому - ковать,
чтобы - Боже, упаси! - не возродили частного промысла. Закоперщики новой
"жисти", во хмелю вседозволенности, уже зарились и на своих селянских
умельцев, замысливая, если не раскулачить, то - "обобчествить их струмент для
обчего пользования". На деле же вышло гораздо проще: расхватали бы все на-
шарап - кому что достанется. Потом иззубрили бы руками неумех и выкинули на
задворки за ненадобностью.
Открываться же мастерам до поры до времени не хотелось: а вдруг их
дерзостная затея обернется пшиком на радость местным зубоскалам? Да на том и
ударили по рукам, порешив: творить свою задумку будут - на свой страх и риск -
ранними да поздними упрягами, чтобы не вышло в ущерб колхозной работе. И что
немаловажно, а это и было для них главное, пока пронырливые лежебоки валяются
у себя в постелях под пологами, строгая на зорьке в усладу со своими
беззаботными марьюшками себе подобных "пестухов". А так как столяр-
председатель жил на юру лесного ручья, делившего деревню на два края -
Козляевский и Аристовский, то и строгать-пилить ему пришлось у себя в столярне
за занавешенными дерюжными покрывалами окнами.
И их тайно рожденное детище закрутилось-завертелось, ни раньше, ни позже, а
точно подгадало явиться на свет Божий - к октябрьским торжествам: другого
срока для завершения любого дела - уже не мыслилось. На тогдашней
"презентации" деревенской "фабрики" частовской Мастак не без бахвальства
высокопарно сказал на стихийном сельском сходе:
- Дорогие наши труженицы, принимайте в услужение себе деревянную помощницу
- на восемь персон! - Частовские, они - такие: и делом, и словом любили
козырнуть.
Например, старый одноногий гармонист Никанорыч - инвалид русско-японской
войны девятьсот четвертого года - объявлял плясовую непременно с городским
форсом: "Дык, уважаемые, пиеса "Барыня"!" Но и то правда, Частова всегда
славилась гармонистами, не менее, чем плотниками. Но свадебным гармонистом в
деревне был все-таки один - Никанорыч, которого так и величали с любовью: "Наш
Пиеса-Барыня!"
Макет той чудо-льнотрепалки стал достоянием первой Всесоюзной
сельхозвыставки в Москве. За участие в ней отец был премирован велосипедом
Первого московского велосипедного завода.
Но это будет все потом, в следующем году. А тогда, вскоре после такого
волнительного события в деревне с льнотрепалкой, отец наконец-таки сдал свои
"временные" председательские хлопоты выученику Высшей вэкэпэбэвской областной
школы. (Но, как покажет время, не в коня корм пошел. Весной его поменяли снова
на мало-мальски оклемавшегося кособокого Мельникова, который будет тянуть
нелегкий председательский воз еще целых два десятилетия).
Мне запомнилось, как отец на общем собрании в клубе - после отчета и его
перевыборов - винился перед однодеревенцами, показывая им свои тоскующие по
любимому делу ладонищи:
- Простите, люди добрые, ежели что не так получалось, как хотелось бы... Да
и то правда, не моими руками держать бумажки. Как ни осторожничал, все мятыми
получались... Да и на свет Божий, сами знаете, я явился не белоручкой - на
сенокосе в Березугах, когда мать-роженица моя заводила зарод стога, чтоб
метать сено...
И уже на другой день частовской Гаврила Мастак к большой радости его бывшей
плотницкой бригады, которая без своего одержимого бригадира как-то увяла
духом, вернулся к любимому делу, дарованному самим Господом - махать топором.
И планов у него было громадье - построить "образцовое!" овощехранилище: со
сквозным проездом и вытяжной вентиляцией. И уже к следующим октябрьским
торжествам оно в полном великолепии красовалось на бугре - за банями
Аристовского края.
На этом можно было бы поставить точку на житии частовского Мастака. Можно,
если бы был изжит до конца - проклятый тридцать восьмой, на излете которого он
был срочно вызван в райцентр.
Потом-то стратеги наши будут валить на "внезапность". Вранье все это, как
покажет время. Даже мы, тогдашние мальчишки, знали про то, что к нам грядет
война. Играя в Чапая, мы ею уже жили. Да что там, про себя скажу: я даже
читать выучился до школы по газетным сводкам - из Китая, Абиссинии и Испании.
...Я - отрок двенадцати лет от роду - живой свидетель того грозного
времени, лежал в телеге, вслушиваясь в голоса частовских певцов, особливо от
других "хоров" дравших свои глотки в полюбившейся им песне:
- Да, час настал, - тяжелый час
Для родины моей.
Молитесь, женщины, за нас,
За ваших сыновей!
Молитесь, женщины, за нас,
За ваших сыновей!
И опять пели сначала:
- Трансвааль, Трансвааль...
Не знал я тогда, не догадывался - не к добру выйдет для наших
однодеревенцев их неуемная ретивость. Немногим из них суждено будет вернуться
домой - ни к Покрову, как им мнилось по дороге в райцентр, ни через четыре
года Великой войны, которая лично мне еще навсегда испортила и день
рождения...
А рядом мирно хрумкала лошадь, напоминая шуршание грибного дождя по
драночной крыше. Может, поэтому мне и блазнилось, вернее, уже снилось, как я
ходил с отцом в его любимый - неблизкий от деревни - бор Барская Нива.
Я любил с отцом наедине бродить по нашим заповедным местам. Он никогда не
считал меня маленьким, всегда затевал какие-то игры, которые ему и самому
"ндравились". Бывало, идем ранним утром по берегу реки, занавешенному живым
пологом плывущего по течению молочного тумана, он вдруг спрашивает: "Сынка, а
ну, быстро ответь - какая сщас рыбина брязнулась на перекате?" Заходим в
бисерно-росный калинник - опять вопрос: "А ну, скажи, какая тут птаха тенькает
краше?" Или, возвращаясь с дальних Березуг, куда всегда ходили на излете осени
ранними утрами за белыми груздями, он невольно сам засмотрится на ошпаренные
первыми утренниками осинники и вслух подумает: "Экая красотища полыхает!"
Сейчас же мне снился наш заветный кондовый сосняк Барская Нива, в подножье
которого стлался иссиня-белесый, как первоапрельский ноздреватый наст,
хрусткий мох, а на нем - то там, то сям - уже чудились коричневые шляпки...
Отец стянул с головы кепку и, вдыхая, будто церковный ладан, смолистый дух
бора, сказал:
- Ты только, сынка, погляди: не лес - храм пресветлый! - и он широко
показал своей большущей ручищей на веероусые надрезы подсочки на могучих
лесинах, походивших на врезанные в их живое тело старые доски икон, с которых,
казалось, вот-вот проглянет строгий лик святого угодника. А конусообразные
глиняные горшочки для сбора живицы и впрямь смахивали на горящие лампады:
стекавшие в них "слезы" смолы вспыхивали огоньками, когда их касались
колеблющиеся лучи солнца, пробиваясь сквозь ветки макушек. И, видно от
нахлынувших возвышенных чувств, отец вдруг запел:
- Боже, царя храни...
И кондовый, самоварный, сосняк в лад ему отозвался каким-то струнным эхом:
"...ни-и!" - которое как бы подхватило меня, будто оброненное куропаткой перо,
и легко понесло в кудрявые выси макушек. И вот, уже находясь в зеленом
небытии, я то ли со страху, то ли от охватившего меня восторга, вдруг
заплакал, услышав в яви голос отца:
- Что с тобой, сынка? - Пребывая все еще во сне, мне помнилось, что я лежу
на дне глубокого колодца, а на меня... из-под белого плывущего облака по-
сродственному вглядывается архангел Гавриил, продолжая будить меня голосом
моего отца. - Да очнись же ты, сынка, это я - твой папка...
Мой отец, верно, очень смахивал на своего небесного тезку на треснутой
темной доске в переднем углу. Строгое костистое лошадиное лицо, и нос, не
такой, как у наших матюжных мужиков - "картошкой" на конопатых обличьях, был
благородный: тонкий с горбинкой, будто у Божьего воина с копьем...
Помню, он даже и коня мне, маленькому, смастерил из свилеватого комля осины
в серых "живых" яблоках, похожим на себя. Через это его, Мастака, я иногда еще
в шутку называл: "Конь ты мой Горбоносый!" Только в плечах был не в пример
иконе - зело широк: косая сажень! А кулаки так и вовсе - гири-двухпудовки.
Поэтому он и не дрался никогда в престолы на стороне частовских "санапалов",
отшучиваясь, показывая свои кулачищи: "Не убивать же мне чужаков - пускай
живут и поют песни!"
- Папка, ты так долго не приходил, что я во снях тебя увидел, - наконец
очнулся я от наваждения. - На Барскую Ниву ходили ломать белые. - (Частовские,
истовые грибники никогда не скажут "резать грибы", хотя и ходят в лес с
ножами. А только: "ломать!" Право, "белые" растут у нас, как говорят в
деревне, до того "запестоватыми" да упругими, которые, воистину, надо "ломать"
с треском.)
- Да все не отпускали, сынка, - повинился отец. - Вот и пришел-то на какую-
то минуту. Вагоны уже поданы - сщас посадка начнется, и паровоз стоит под
парами.
И, отгоняя все печали, помечтал несбыточно:
- А дивья б, сынка, нам вместях сходить на прощание на Барскую за белыми-
то. Поди, знай, доведется ли еще когда мять наши боровые сивые мхи.
- Конь Горбоносый, ты чего? - приструнил я его по-взрослому, на что он
намекает. - Лучше на прощание давай, как когда-то, поборемся понарошке.
- Теперь, сынка, папке твоему будет с кем бороться и не "понарошке", -
тяжко вздохнул отец и ошарашил меня незнакомыми словами, от которых повеяло
холодом. - Раз объявлена тотальная мобилизация, тут шутки прочь!.. А теперь
давай слезь с телеги и запряги лошадь, а я посмотрю, как ты умеешь.
- Сам знаешь, что умею, - буркнул я, боясь разреветься.
- Хорошо, сынка, - пощадил мое самолюбие отец. - Тогда хоть на прощание
давай это дело сладим вместях.
Я завел лошадь в оглобли и стал закладывать тяжелую рабочую дугу, которая
оказалась мне не по силам - вывернулась из рук и другим концом больно ударила
прямо по лодыжке ноги. Я запрыгал-заплакал, но уже от другой боли. Я вдруг
остро осознал, что сейчас мой Конь Горбоносый уйдет от меня навсегда. И отец,
видно, подумал об этом же. Сломавшись, как расхлябавшийся складной плотницкий
метр, он с каким-то внутренним стоном рухнул на колени и, скрывая
навернувшиеся слезы на глазах, крепко прижал меня к своей бугристой груди...
Так я во второй раз в своей жизни увидел его в слезах.
...Впервые такое с ним приключилось в лихую годину - в зиму с тридцать
седьмого на тридцать восьмой. В бытность его "временного"
председательствования. В постоянные же "преды" колхоза он никак не соглашался.
Да и не подходил ни с какой стороны, ибо считался - белой вороной, то есть
помимо Мастера деревянных дел слыл в деревне еще и притчей во языцех, как
"беспартийный большевик": много работал, жил по правде и с однодеревенцами был
в ладу, по-людски. А ежели дело доходило до чарки, ему ставили - его
знаменитую кружку "РККА" (Рабоче-Крестьянская Красная Армия), чтобы уровнять
его с собой. Иначе, если пригубливаться наравне, он - сидит трезвехонек, поет
песни, а они, уже осоловелые, вот-вот уберутся под стол, чтобы утром,
бахвалясь, рассказывать о том, чего не помнят: "Вот вчерась гульнули, так
гульнули!"
А то, под настроение, такой-то семипудовый мужичище-сбитень пустится в пляс
- вприсядку. Особенно под Никанорычеву тальянку - "Пиесу-Барыню", аж половые и
потолочные матицы ухали ему в лад!
Сколько я помню то время, отца постоянно "сватали" в партию, а он все
отнекивался:
- Пока, дорогой товарищ, я до этого - не дорос, не дозрел. Да и то правда -
некогда мне рассиживаться на собраниях. Кто ж за меня будет махать топором,
ежель я подамся в краснобаи?
На что однажды один ретивый райкомовский уполномоченный (которых после
войны уже нарекут "толкачами") на его очередной отказ вступить в ряды ВКП(б)
раздраженно высказал ему:
- Однако ж, ты, Мастак, как я погляжу - размазня на постном масле... Не
понимаешь, в какое время живешь. Гляди, не пожалей...
- Нет, пока до этого я еще - не дорос, не дозрел, - гнул свое отец,
замороченный темными намеками прилипчивого наставителя.
Но, как Мастак ни упрямился, ни упирался, а задвинули-таки его в
председатели с оговоркой по его настоянию - с записью в протоколе общего
собрания: "временный".
Так, не по своей воле, его отрешили от любимого дела - с утра до вечера, в
жару и стужу - махать топором да перекатывать бревна, как карандаши. Двумя
годами ранее за строительство - "образцовых" - коровника и конюшни он, как
бригадир плотницкой бригады, на областном слете ударников был премирован
патефоном Первого гатчинского завода с тремя пластинками в придачу: "Дударь,
мой дударь", в исполнении Ольги Ковалевой; шотландской застольной "Выпьем, ей-
Богу, еще!" и боевым маршем в честь дальневосточного командарма Блюхера,
награжденного орденом "Красного Знамени" N1, "Бейте с неба, самолеты, - в бой
идут большевики!" И тот же марш сразу стал для частовских мальчишек любимой
песней - уж больно она задорно горлопанилась и шлепко топалось под нее босыми
следами...
После того, как первого частовского председателя Егора Мельникова какая-то
страшная болезнь - парализовало всю правую сторону тела - уложила надолго в
областную клинику, дела в колхозе имени Клима-Лошадника круто покатились под
гору. За это время сменилось несколько председателей - и все не в коня корм.
Да и кормить скотину в ту зиму, когда отец принял разоренное хозяйство, в его
"образцовых" коровнике и конюшне было нечем. И поневоле ворошиловцам во главе
с новым председателем-плотником пришлось стать застрельщиками по нововведению.
Вместо сена стали задавать в ясли гольем "витамины": еловый лапник и березовые
голики.
Надо было готовиться к весеннему севу - пахать-боронить, а изморенных
донельзя, облишаенных лошадей нещадно косил страшный мор - сап с мытом. На
деревню был наложен строжайший карантин, по которому - ни выехать, ни въехать
не моги в Частову...
Из песни слов не выкинешь: не лучшим было и прошедшее лето. От зачумления
людей революционным "зудом" деревня недосчиталась трех непоследних мужиков. И
первым пал длинноногий, как журавель, Яков Прокофьев, по-деревенскому
прозванию: Бело-Красный. Бывший кавалерист Белой и Красной армий,
заупрямившийся в свое время - со всеми вместе - "дружно" вступить в колхоз, а
стало быть и встать в первые ряды ворошиловцев. Может, и одумался бы упрямец -
вступил по доброй воле в колхозные чертоги, куда ж деваться человеку, как
загнанной в засеку лошади, если, куда ни глянь, будто в песне: "Все кругом -
колхозное, все кругом - твое!" И тут же про себя талдычил: "Только - не свое,
и не мое..."
Но он сам подторопил свою планиду-злодейку. Как-то перед Спасом, после
полуденного воскресного чая с черничными сканцами, выкатился из-за стола к
себе в подоконье - освежиться на воздухе, и видит такую картину. По всему краю
деревни издивляются сельчане, вперясь гляделками в чистое небо. А старухи, так
те крестились, словно перед кончиной света, видя, как на деревню, со стороны
леса Борти, будто бы с поля выплывала огромная светло-мышастая корова-барка с
отвислым грузным выменем, которым, казалось, сердешная, вот-вот заденет за
шишаки ельника. На наеденном круглом боку отчетливо виднелось клеймо из
больших синих букв, которое сипло считывал - выказывая, каков он грамотей! -
старый бобыль Ероха, не знамо откуда прибившийся к деревне:
- Сы Сы Сы Ры... (вот и догадайся, какой светло-мышастый зверь крался к
деревне из "Гнилого угла"?)
И тут Бело-Красный, бывалый рубака всех последних войн, зычным голосом внес
ясность:
- Не дрейфьте, православные! Это дирижабль летит... - И, зло сплюнув,
съязвил, скорее по привычке, чем для чужого длинного уха. - Ишь, раскатывается
партейная неработь по небу букашками.
И верно, вместо вымени в подбрюшье "коровы-барки" висела корзина, из
которой выглядывали, как грибы, какие-то человечки.
- Ох уж эти большевички, - продолжал негодовать бывший бывалый рубака. -
Раскатываются по небу себе в удовольствие, а то, что на земле лошади дохнут от
заразы, им - хоть бы хны!
Эти слова были кем-то услышаны и доложены - куда следует в свободном
пересказе: Бело-Красная долговязая калягань прилюдно обзывал, мол, отважных
большевиков - "букашками".
Так строптивый Яков Прокофьев (стоявший грудью в первую мировую войну за -
царя-батюшку, в революцию занял сторону - большевиков, в гражданскую махал
шашкой направо и налево сперва за - белых, затем за - красных; потом снова за
- белых, и снова за - красных) из-за вздорного характера и не доносил
форсистые штаны с лампасами. Бедолага по простоте своей укатил, будто в
ночное, в недобрый час, на "бешеном воронке" в - Никуда. И сразу с концами,
оставив на краю деревни, в крашеном доме, чернявую жену Веру из плодовитого
древа Жуковых (сестра пятерых братанов и мать пятерых детей, мал мала меньше).
Вдогон Бело-Красному оракулу прокатились на том же "бешеном воронке" вскоре
и Никитины: медвежатый отец Матвей-Молчун и его женатый рослый красавец сын
Николай, который от Бога был еще и заядлым лошадником. Он и в колхоз-то
вступил только из-за своего холеного жеребца Циклона, обобществленного
закоперщиками новой "жисти" на разжив-почин свежеиспеченного колхоза...
Боялся, что тот попадет в чужие нерадивые руки. И златогривый любимец погубил
своего бывшего хозяина в его новой ипостаси. В необузданной страсти при его
могуте он оказался не по силам лягливой кобыленке с расхристанного подворья
бывшего частовского предкомбеда. Чагривая темно-пепельной масти, после
покрытия жеребцом Циклоном, сделала выкидыш. И вся вина в этом пала на
молодого завконефермы - за его "родственные связи" с производителем. Ясное
дело, что тут таился какой-то враждебный кулацкий подвох.
И укатали частовского красавца-лошадника его благие помыслы (хотел через
своего жеребца в паре с чагривой вывести особую породу лошадей - колхозную!)
по вымощенной дорожке в ад. Переворачиватели мира не посчитались, что жена
Николая Матвеевича, Нина Ивановна, как порука мужу, была деревенской
учительницей, вразумляла начальной грамоте их же неслухов. Нет, не
посчитались!
Это случилось летом - на Казанскую. А после Покрова, темной ночью, умыкали
из деревни и его медвежатого отца. Матвей-Молчун всегда слыл в деревне
справным мужиком, хотя бы потому, что ел свой хлеб до нови.
В доколхозное время он с зари до зари "зверюгой" корчевал на вырубках пни -
готовил пашню. Через это летом, экономя время, даже не ходил в баню -
обходился рекой. Но вот на уговоры же вступить в колхоз, чтоб уже ломить
сообща - стократной силой, на него находило какое-то затмение. Казалось,
мужика вот-вот хватит столбняк - мычал что-то невразумительное: "Знаш-понимаш,
понимаш-знаш, обченаш..." Вот и весь его был ответ на "обчественное" ведение.
Собрание хохотало и с миром отпускало домой. Ступай, мол, тугодум, и покумекай
еще раз у родной печки, может, она что-то и присоветует тебе, как дальше быть?
Так и жил мужик в тревоге.
Но вот на державном олимпе новые боги мудро и решительно начертали: "Кто не
с нами, тот - против нас!" И когда раскаты их громов докатились до берегов
бегучей реки, не стало на частовских нелегких белых подзолах трудяги-Молчуна.
Да, пропал земляной червь, Матвей Никитин, ни за понюх табаку...
Вот в какое, видно, спосланное самим Богом, проклятое время взвалил на свои
могутные плечи бремя забот мой беспартийный отец, пока выдвиженец райкома,
срочно принятый в ряды ВКП(б), проходил председательскую выучку в областной
Совпартшколе.
Но как бы там ни было, жизнь в деревне на этом не кончилась. Плохо, хорошо
ли, весной отсеялись в сроки. Памятуя о прошедшей зимней бескормице, и к
сенокосу подошли серьезно. Тут, видно, сказалась заслуга нового председателя-
плотника, который, готовясь к луговой страде, сделал перенасадку своей косы на
литовку самого большого размера, а само косовье пустил длиннее обычного. А
когда подоспела пора отбивать на заулках косы, он не стал созывать общее
собрание, как было принято, а пошел по подворьям, где в разговорах с хозяевами
напоминал им крестьянскую заповедь, уже напрочь забытую в колхозное время:
"Коси, коса, пока роса: роса долой - косарь домой". И от себя добавлял: "Да и
косить по холодку под задорные наигрыши дергачей - азартнее выйдет!"
А на восходе солнца он встал впереди косарей и пошел, враскорячь, махать
литовкой двойным прокосом, благо силушкой не был обижен Богом. Ну, а для
настроения во время перекуров у него, запевалы деревни, про запас имелись
песни. А без них - какой же сенокос на Руси?
В то лето - на удивление - не подкачал и лен. Когда его поля разлились
голубыми озерами цветения, председателю-мастеру втемяшилась в голову затея -
замахнуться на деревянную машину. Да не на какую-то там самоделку-безделицу,
что-то вроде "вечного двигателя". А на самый что ни на есть настоящий агрегат-
льнотрепалку, приводимую от конного привода, чертеж которой был напечатан во
всесоюзной газете "Соц. Земледелие".
Помимо всего прочего, что мог сделать столяр-плотник, нужны были крепежные
болты и простейшая ременная трансмиссия для передачи вращения от конного
привода к двум брусам-валам с посаженными на них по четыре маховых деревянных
колеса, к которым крепились бы нагелями по восемь тонких изящных трепал... Тут
хоть имей пять пядей во лбу, а без кузнеца не обойтись...
С такой вот непростой заботушкой в разгар лета, ближе к вечеру, и пожаловал
с поллитровкой в кармане частовской председатель-косарь в Заречье. На бывший
столыпинский отруб Новинка в двух верстах от деревни - вниз по течению к
известному, как и он, всей округе мастеру, но уже железных дел, Ивану-Кузнецу.
И там у них, за хлебосольным столом, состоялась тайная "вечеря". На то был
свой резон. В том крутом году им, уважаемым селянам, настрого было заказано
что-либо делать помимо колхозной работы: одному - строгать, другому - ковать,
чтобы - Боже, упаси! - не возродили частного промысла. Закоперщики новой
"жисти", во хмелю вседозволенности, уже зарились и на своих селянских
умельцев, замысливая, если не раскулачить, то - "обобчествить их струмент для
обчего пользования". На деле же вышло гораздо проще: расхватали бы все на-
шарап - кому что достанется. Потом иззубрили бы руками неумех и выкинули на
задворки за ненадобностью.
Открываться же мастерам до поры до времени не хотелось: а вдруг их
дерзостная затея обернется пшиком на радость местным зубоскалам? Да на том и
ударили по рукам, порешив: творить свою задумку будут - на свой страх и риск -
ранними да поздними упрягами, чтобы не вышло в ущерб колхозной работе. И что
немаловажно, а это и было для них главное, пока пронырливые лежебоки валяются
у себя в постелях под пологами, строгая на зорьке в усладу со своими
беззаботными марьюшками себе подобных "пестухов". А так как столяр-
председатель жил на юру лесного ручья, делившего деревню на два края -
Козляевский и Аристовский, то и строгать-пилить ему пришлось у себя в столярне
за занавешенными дерюжными покрывалами окнами.
И их тайно рожденное детище закрутилось-завертелось, ни раньше, ни позже, а
точно подгадало явиться на свет Божий - к октябрьским торжествам: другого
срока для завершения любого дела - уже не мыслилось. На тогдашней
"презентации" деревенской "фабрики" частовской Мастак не без бахвальства
высокопарно сказал на стихийном сельском сходе:
- Дорогие наши труженицы, принимайте в услужение себе деревянную помощницу
- на восемь персон! - Частовские, они - такие: и делом, и словом любили
козырнуть.
Например, старый одноногий гармонист Никанорыч - инвалид русско-японской
войны девятьсот четвертого года - объявлял плясовую непременно с городским
форсом: "Дык, уважаемые, пиеса "Барыня"!" Но и то правда, Частова всегда
славилась гармонистами, не менее, чем плотниками. Но свадебным гармонистом в
деревне был все-таки один - Никанорыч, которого так и величали с любовью: "Наш
Пиеса-Барыня!"
Макет той чудо-льнотрепалки стал достоянием первой Всесоюзной
сельхозвыставки в Москве. За участие в ней отец был премирован велосипедом
Первого московского велосипедного завода.
Но это будет все потом, в следующем году. А тогда, вскоре после такого
волнительного события в деревне с льнотрепалкой, отец наконец-таки сдал свои
"временные" председательские хлопоты выученику Высшей вэкэпэбэвской областной
школы. (Но, как покажет время, не в коня корм пошел. Весной его поменяли снова
на мало-мальски оклемавшегося кособокого Мельникова, который будет тянуть
нелегкий председательский воз еще целых два десятилетия).
Мне запомнилось, как отец на общем собрании в клубе - после отчета и его
перевыборов - винился перед однодеревенцами, показывая им свои тоскующие по
любимому делу ладонищи:
- Простите, люди добрые, ежели что не так получалось, как хотелось бы... Да
и то правда, не моими руками держать бумажки. Как ни осторожничал, все мятыми
получались... Да и на свет Божий, сами знаете, я явился не белоручкой - на
сенокосе в Березугах, когда мать-роженица моя заводила зарод стога, чтоб
метать сено...
И уже на другой день частовской Гаврила Мастак к большой радости его бывшей
плотницкой бригады, которая без своего одержимого бригадира как-то увяла
духом, вернулся к любимому делу, дарованному самим Господом - махать топором.
И планов у него было громадье - построить "образцовое!" овощехранилище: со
сквозным проездом и вытяжной вентиляцией. И уже к следующим октябрьским
торжествам оно в полном великолепии красовалось на бугре - за банями
Аристовского края.
На этом можно было бы поставить точку на житии частовского Мастака. Можно,
если бы был изжит до конца - проклятый тридцать восьмой, на излете которого он
был срочно вызван в райцентр.
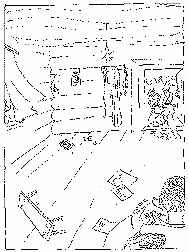 Домой отец вернулся где-то за полночь - усталым и донельзя взбудораженным.
И сразу же от порога, не раздеваясь, кинулся в горницу - к раме с семейными
фотографиями. Сорвал ее с гвоздя в простенке и извлек из-под стекла не очень
ясную любительскую карточку, на которой он был изображен в веселом
расположении духа с председателем Маловишерского РИКа - районный
исполнительный комитет - Иваном Федоровым, когда тот был еще начальником
Парнивского химлесхозовского пункта. Отец поставлял ему бочки под живицу,
которые мастерил зимними вечерами. С тех пор они и дружбу водили.
- Жена, живо - ножни! - выдохнул он с надсадом, нетерпеливо тряся
расшиперенной ладонищей.
Мать то ли со сна, то ли с перепугу (таким взбеленившимся, видно, она еще
не видела его) подала ему подвернувшиеся под руку овечьи ножницы. Ими-то отец
и отхватил от себя на карточке своего задушевного дружка-приятеля, который,
кружась, как палый лист, лег к его раскоряченным ногам. А уж они ли не любили
друг друга? Одних только песен у них было перепето за семейно-праздничными
столами столько! - ни в один парный воз на увяжешь...
А когда у свежеиспеченного предРИКа Ивана Матвеевича скоропостижно умерла
жена, оставив ему двух дочек (простудилась крупозным воспалением легких при
переезде на подводе в осеннюю распутицу к новому месту службы мужа), отец - по
истечении какого-то времени - сосватал ему в невесты первую красавицу деревни,
гармонистову дочку Катерину, свою крестницу.
Потом он широко шагнул к угловому столику, где стоял дарственный патефон с
открытой крышкой, сорвав с его круга мою любимую пластинку с боевым маршем
легендарного Первого Маршала Советского Союза: "Бейте с неба, самолеты, в бой
идут большевики!" И, к моему мальчишьему ужасу, разломил ее напополам, кидая
на пол.
- Папка, ты что - ошалел? - кинулся я к нему с плачем.
- Не убивайся, сынка... это уже - мусор Истории! Враги народа! - услышал я
в ответ какой-то чужой надрывный голос.
Оказывается, его и вызвал в район кто-то из доброжелателей к бывшему
хлебосольному председателю - "упредить", чтобы он убрал все улики каких-либо
связей с его уже теперь бывшим дружком-приятелем Федоровым, "разоблачение"
которого совпало по времени с "делом" маршала Блюхера.
Бабка Груша, метя веником пол, сокрушенно причитала:
- Вседержатель ты наш небесный, да неужто ты так ничегошеньки и не ведаешь,
што деется-то у Тебя тут, на Белом Свете?.. Выходит-таки, теперича на земле
перевелись все твои крещеные. Остались одни вороги - ведьминого опоросу!
От этих слов отец аж вздрогнул, замотав головой, будто здоровенный бык на
заклании, очухавшийся от удара в межрожье деревянной долбней, которой глушат
рыбу на мелководьях по первольду. Он подбежал к бабке и выхватил из-под ее
веника "мусор Истории", который сложил все вместе - обе половинки запретной
фотокарточки и порушенные полукружья пластинки и тут же упрятал на дно
старинного, красного дерева, китайского чайного ларца, где хранились в
неистребимых ароматах чая домовые "ценные бумаги". Квитанции нескольких лет на
сданные - "за так" - сельхозпродукты: картошки, мяса, молока, яиц, шерсти. И
еще полагалось ежегодно сдать с подворья по две свежепосоленные шкуры, про
которые мужики с опаской шутковали промеж себя: "Одну, хозяин, сдери с себя, а
другую - с женки своей, и будут квиты с государством."
В том же ларце хранились - вместо денег - и никогда не выигранные облигации
ежегодных оборонных займов "ОСОАВИАХИМа".
И, словно смертельно раненный медведь, облапив руками голову, он заметался
по горнице, распаляя себя каким-то нечеловеческим ревом:
- Не верю! Не ве-ерю-ю!
Вот тогда-то я и увидел его - такого огромного мужичища - впервые в
слезах...
* * *
Приметив у отца свежую синеву на висках, я стянул с его головы кепку и - не
узнал своего любимого Коня Горбоносого без его, такой знакомой для меня, косой
черной челки прямых волос ( он никогда не зачесывал волосы назад). И вот,
желая развеселить как-то его, все еще стоящего надо мной на коленях, я шлепнул
ладошкой по стриженой маковке:
- Какой смешной-то ты, папка... как огурец стал!
- Так легче считать будет нас, сынка, - отшутился отец. И поднявшись с
колен, серьезно добавил. - К тому ж, огуречным чохом смелее будет ходить в
атаку. - А насухо утерев кулаком глаза, он резко передернул плечами и
посетовал мне, как ровне своей. - Фу, как разнюнился, аж с души воротит... Ну,
а мамке-то об этом совсем не обязательно говорить. Так уж как-то само
получилось.
- Папка... Конь Горбоносый! да матюгнись ты, как следно, и тебе -
полегчает, - дал я совет по-свойски, как у нас было заведено шутить.
(Отец не любил, да и не умел сквернословить: при его могутной стати с его
величавым горбатым носом божьего воина на длинном лошадином обличии было как-
то - "не к лицу". А если когда бывало и вспылит: "Маткин берег - батькин
край!" - разве это матюг?)
От такой сыновьей подсказки отец снова сграбастал меня в свои сильные
объятия и, вскочив на ноги, закружился на заулке со мной на руках, как с
маленьким, громко, сквозь слезы, не то плача, не то хохоча:
- Сынка, я и не догадывался, какой чудной-то ты у меня растешь!.. - И мне
казалось, что я не на двух руках сижу, а верхом кружусь на грохочущем весеннем
громе и на мою двухвихровую маковку льется теплый дождь из отцовских слов. -
Да как же мне теперь, кровушка ты моя, расстаться-то с тобой, а?
И вот, как бы "понарошке" всласть поборовшись, как когда-то любили
дурачиться в ожидании ужина, мы продолжили извечное мужское дело - запрягать
лошадь. Отец незаметно подмогнул перекинуть дугу на другую сторону, и у меня
сразу дело пошло на лад. А когда я стал засупонивать клещи хомута, он
подсказал завязать супонь на "бантик". И показал, как это делается:
- Это тебе, сын, "узелок" на память. Мало ль какая беда может приключиться
в дороге...
(А вот как расстались мы с ним в последнюю минуту, у меня начисто выпало из
головы, о чем буду потом жалеть всю жизнь. Только одного не знал я тогда, а
сколько ж этой жизни мне будет отмерено в рушащемся мире?)
Очнулся я в горьких слезах, лежа ничком в телеге (видно, уложил в нее меня
отец при своем уходе), от громовой духовой музыки, которая трубно выговаривала
словами:
"Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне..."
Видно, частовские неуемные певуны, уходя в свое Бессмертие, достали-таки
своей полюбившейся песней до самых печенок городских железнодорожных трубачей,
которые с ходу подхватили запоминающуюся мелодию.
Там же тревожно и прерывисто гудели, как бы остановившиеся, паровозы. И
только один протяжный гудок удалялся в сторону Мстинского моста: подальше от
войны... Это маловишерцы, а с ними и наши частовские мужики и парни уезжали в
Череповец - на формирование. Чтобы уже через день-другой пуститься в обратный
путь - на Запад: навстречу своей грозной неминучей планиде.
Посреди заулка в великой скорби стояла старуха, прогнавшая меня утром с
крыши дома. Застигнутая музыкой на полдороге к огороду, она вслушивалась в
убывающий печальный гудок, истово крестилась и вполголоса просила небеса:
- Спаси и оборони их - от всех напастей и напрасных смертей...
Мельников вернулся ко мне, куковавшему на Поперечной улице, уже поздно, еще
больше прежнего, как мне погляделось, кособочась и приволакивая парализованной
ногой. И правая рука висела - плеть-плетью. От его прокуренных усов попахивало
и винцом, что говорило: частовской председатель проводил на войну своих
однодеревенцев - честь по чести. Понюхавший вволю пороху и отравляющих газов в
первую мировую, а затем и в гражданскую, он, как и мой отец, ошарашил меня
незнакомыми словами войны:
- Раз объявлена "тотальная мобилизация", видно, теперь не скоро закончится
эта кровавая катавасия... Ох, не скоро, - сказал он устало, скорее для себя,
словно бы продолжая разговор на вокзале с провожающими после проводов земляков
района.
Широко оглядев над головой небо и убедившись, что оно было пусто в его
близости, он снова тяжко вздохнул и только после этого соизволил узреть меня:
- Ну вот, родный (дядька Егор всех так называл: "родный, родная"), и
остались теперь мы, тыловики: старые да малые.
С этими тяжкими думами мы и снялись со двора Поперечной улицы, которых в
деревенском городке районного масштаба было - ни много, ни мало - тринадцать.
Одинаковых, как две капли воды: с голубыми палисадниками, полнившимися
роскошными шапками георгинов, - летом и осенью с непролазной грязью проезжей
части улиц. А так как стояла макушка небывало жаркого лета, то и ехали мы по
затравенелой улице к себе домой в начисто обезмужиченную деревню, как сказал
дядька Егор, "крепить тыл обороны страны".
Вотчину маловишерских железнодорожников - деревню Глутно мы проехали уже с
первыми петухами. Морило в сон. Лошадь, воспользовавшись попустительством
юного ездового, брела сама по себе, хватая на выбор макушки высоких трав,
росших по краю канавы. Дядька Егор, не выдержав такого дорожного
разгильдяйства, потребовал своей председательской властью - навести порядок:
- Да ожги ты ее, каналью, кнутом!
Я хватился было за кнут - и не нашарил его в телеге, чем в конец
раздосадовал Мельникова:
- Потерял, что ли?.. Да остаться в дороге без кнута так же зазорно, как и
потерять спьяну шапку. - И чихвостил он меня, пока комарье, озверевшее на
восходе солнца, не загнало его с головой под домотканое дерюжное покрывало.
Не выдержав комариного содома, я тоже вскоре убрался под покрывало. Так и
ехали мы - от Глутна до Селищи, кимаря втемную под трескучие наигрыши ночных
луговых музыкантов-дергачей, пока я не прохватился от дикого ржания лошади,
ломкого хряста кустовья и всполошенных криков председателя, которого как бы
угораздило ухнуть куда-то в преисподнюю:
- Ой-ой, мать твою!..
Так оно и случилось. Лошадь, предоставленная сама себе, рванула вскачь под
гору Крутого Ручья, а опущенные вожжи, намотавшись на замазученную дегтем
ступицу переднего колеса, резко затянули ее на сторону. И мы с полного маху
ухнули с кручи насыпи перемычки вниз, где телега, разъявшись с передками,
повисла кверху колесами на сломанных ольшинах. Дядька Егор, слышно было, в
жерле оврага брязгался в воде, чертыхаясь и кляня все и вся на свете. Я же
оказался перед самой мордой лошади, которая вместе с передками лежала на боку,
удушливо храпя и беспомощно лягаясь в воздухе ногами.
Вот тут-то и сгодился мне отцовский "узелок на память". Я дернул за конец
супони, завязанной на "бантик", и лошадь сама распряглась. Затем и встала на
ноги, с благодарностью отфыркиваясь. А я тем временем скатился вниз -
вызволять из жерла оврага знаменитого на весь район Мельникова.
Потом немощного председателя - под руку и охромевшую лошадь - в поводу я
повел на дорогу, выискивая пологость вздыма. Будто из окружения, мы
пробирались по тучному, рослому дудняку. Дядька Егор, до нитки мокрый и все
время оскользываясь и спотыкаясь лядащими ногами, шел и костил меня на чем
стоит свет:
- ...Мужик ты еще херов, вот ты кто! - И с этими словами зашелся навзрыд,
словно бы жалуясь солнцу, уже рассевшемуся на макушках елок над обочью оврага.
- Да с кем я теперь остался-то, а? Как жить-воевать теперь будем, а?
Кружным путем, наконец, выйдя на дорогу, мы принялись вызволять телегу из-
под кручи с помощью лошади. По подсказке моего, пожившего на свете, путника я
приладил к гужу распущенные вожжи и на них мы - с великими трудами - подняли
на насыпь перемычки сперва передки, а затем и саму телегу...
И кому было знать, что Крутой Ручей между деревень Глутно и Селищи в
двадцати верстах от Частовы (через Подмошские болота с обитаемыми
старообрядческими скитами) вскоре станет необоримой преградой для
победоносного шествия на Восток грозного врага. В одну из ранних морозных
ночей немцы, перейдя по первольду Волхов, на рассвете ворвутся в Малую Вишеру,
замысливая сходу выйти во второй эшелон обороны уже определившегося
Волховского фронта. К реке Мста, где правый ее берег - мы, мальчишки, старшие
сестры и наши матери (и не только Частовы, но и всей глубинной округи),
отложив все колхозные дела, с начала июля и до половины августа, под началом
молоденького лейтенанта с перевязанной рукой на черной помочи на груди,
подпоясывали, будто широким солдатским ремнем - противотанковым рвом. А когда
он был готов, оказалось, по каким-то военно-стратегическим просчетам,
укрепляли не тот берег. И все наши праведные труды - пошли коту под хвост. То
есть не в пользу обороняемых, а против них. Мы обустраивали, как нам внушал
наш раненый лейтенант и его проверяющие со "шпалами" и саперно-инженерными
знаками отличия в петлицах, по всем правилам военного искусства, правый берег,
а на поверку вышло, надо было б кромить заступами и ломами - левый:
неподатливый каменисто-глинистый Грешневский кряж. Левый, черт побери,
левый!.. Ну да, что там, задним-то умом мы все крепки.
Так в начале ранней зимы сорок первого немцы нежданно-негаданно оказались у
Крутого Ручья, где всю ночь будет греметь жаркий бой, в котором непрошеных
гостей отбросят на станцию. А через какое-то время их снова водворят за реку
Волхов в сырые окопы, в которых они потом будут воевать-горевать без малого
три года.
Рубеж у Крутого Ручья отстаивал и наш частовский красноармеец Филипп
Голубев, который еще совсем недавно толково командовал бабьей ратью
овощеводческой бригады, непревзойденный косарь-машинист на сенокосилке, отец
троих чад.
За отличие в том сражении ему была предоставлена краткая побывка в родных
палестинах при личном оружии. Помню, как он в морозных сумерках, весь
заиндевелый, поднялся на припорошенный первым снегом частовской кряж с
окровавленной повязкой на голове, видневшейся из-под шапки, с отечественным -
в диковину - автоматом на плече, на ремне - кинжал-штык, а на груди совершенно
новенькая медаль "За отвагу", которую, видно, перед деревней перецепил с
гимнастерки прямо на нагольный полушубок, чтобы все видели, что он не просто
Филипп Ионыч, а защитник Отечества! И нам, мальчишкам, сразу загорелось - хоть
завтра! - пойти добровольцами в Красную Армию...
Но если сказать откровенно, первыми, кто выиграли бой уже на второй день
войны у Крутого Ручья Волховского фронта, еще не значащегося ни в каких
оперативно-стратегических планах - ни в наших, ни во вражьих штабах, это были
мы с дядькой Егором. Вызволяя из-под кручи телегу, давясь слезами и соплями, я
разом отыграл все свои мальчишьи забавы. С этого утра я уже стал мужиком и все
колхозно-оборонные работы деревни теперь станут и моими работами, пока не
кончится война. А когда она кончится, еще никто об этом не загадывал...
Мельников, глядучи со слезами на глазах на мою путанную расторопность,
видно, воспрял духом, уверяясь, что еще будет ему с кем "крепить тыл обороны
страны":
- Ну, родный, гляжу, с тобой не пропадешь, - сказал он, посмеиваясь своими
карими, с теплиной, глазами. - Хошь и прокатил ты председателя с ветерком по
кустовью да овражью, но и сметку крестьянскую не запамятовал. И как это ты
сумел догадаться ментом рассупонить лошадь-то вовремя? Не сделай этого враз -
могла б и задохнуться. Ничего не скажешь - мужик, молодчага!
- А-а-а, - махнул я рукой и нарочито обыденно ответил: - Вспомнил папкин
"узелок на память". Делов-то!
- Ишь ты, - удивился Егор Екимыч, - это горазд хорошо, когда есть чем
вспомнить своего папку.
Вот уже осталась позади, после Крутого Ручья, опрятная деревня Поддубье,
где живут скуповатые и ходкие на ногу маловишерские "молоконосы", которым с
берестяными заплечными кошелями на три четвертных бутыли десять верст до рынка
- не расстояние.
Как только въехали в частовские заречные угодия новинской бригады,
Мельников, уже обсохший на все жарче разгорающемся солнце ядреного лета,
обратился ко мне на полном серьезе, как к своей ровне:
- Дак, запевай, Гаврилыч, папкину любимую песню - она щас, как никогда,
кстати. Да и в деревне пускай слышат, наши, мол, едут! Так уж у нас,
частовских, было заведено от веку.
И он первым затянул своим дребезжащим, как расщепленное полено, голосом:
- Трансвааль, Трансвааль...
А в это время, как потом узнаем - в Первопрестольной, на Белорусском
вокзале, набирала силу уже другая, нашенская песня:
"Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!"
Вскоре мы получили от отца красноармейский привет - "треугольник". Первое и
последнее письмо, в котором он писал перед отправкой на фронт: срочно получил,
мол, "швейную машинку", а понимать надо было - "максима". Он был кадровым
пулеметчиком во время военных сборов на переподготовку, и "максим" ему был по
плечу.
А уже в середине августа, на частовской престол - яблочный Спас, Мастака-
пулеметчика не стало. Погиб на Ленинградском фронте... Правда, об этом мы
узнаем уже после войны из посмертного извещения, в котором говорилось, что он
погиб "смертью храбрых" под Красным Селом.
В те же срединные августовские жаркие дни сорок первого пал и наш
златоглавый Вечный Град - Новгород, вознесясь в небо в аспидно-жирных свивах
чада, терпко пропахшего темными веками...
Домой отец вернулся где-то за полночь - усталым и донельзя взбудораженным.
И сразу же от порога, не раздеваясь, кинулся в горницу - к раме с семейными
фотографиями. Сорвал ее с гвоздя в простенке и извлек из-под стекла не очень
ясную любительскую карточку, на которой он был изображен в веселом
расположении духа с председателем Маловишерского РИКа - районный
исполнительный комитет - Иваном Федоровым, когда тот был еще начальником
Парнивского химлесхозовского пункта. Отец поставлял ему бочки под живицу,
которые мастерил зимними вечерами. С тех пор они и дружбу водили.
- Жена, живо - ножни! - выдохнул он с надсадом, нетерпеливо тряся
расшиперенной ладонищей.
Мать то ли со сна, то ли с перепугу (таким взбеленившимся, видно, она еще
не видела его) подала ему подвернувшиеся под руку овечьи ножницы. Ими-то отец
и отхватил от себя на карточке своего задушевного дружка-приятеля, который,
кружась, как палый лист, лег к его раскоряченным ногам. А уж они ли не любили
друг друга? Одних только песен у них было перепето за семейно-праздничными
столами столько! - ни в один парный воз на увяжешь...
А когда у свежеиспеченного предРИКа Ивана Матвеевича скоропостижно умерла
жена, оставив ему двух дочек (простудилась крупозным воспалением легких при
переезде на подводе в осеннюю распутицу к новому месту службы мужа), отец - по
истечении какого-то времени - сосватал ему в невесты первую красавицу деревни,
гармонистову дочку Катерину, свою крестницу.
Потом он широко шагнул к угловому столику, где стоял дарственный патефон с
открытой крышкой, сорвав с его круга мою любимую пластинку с боевым маршем
легендарного Первого Маршала Советского Союза: "Бейте с неба, самолеты, в бой
идут большевики!" И, к моему мальчишьему ужасу, разломил ее напополам, кидая
на пол.
- Папка, ты что - ошалел? - кинулся я к нему с плачем.
- Не убивайся, сынка... это уже - мусор Истории! Враги народа! - услышал я
в ответ какой-то чужой надрывный голос.
Оказывается, его и вызвал в район кто-то из доброжелателей к бывшему
хлебосольному председателю - "упредить", чтобы он убрал все улики каких-либо
связей с его уже теперь бывшим дружком-приятелем Федоровым, "разоблачение"
которого совпало по времени с "делом" маршала Блюхера.
Бабка Груша, метя веником пол, сокрушенно причитала:
- Вседержатель ты наш небесный, да неужто ты так ничегошеньки и не ведаешь,
што деется-то у Тебя тут, на Белом Свете?.. Выходит-таки, теперича на земле
перевелись все твои крещеные. Остались одни вороги - ведьминого опоросу!
От этих слов отец аж вздрогнул, замотав головой, будто здоровенный бык на
заклании, очухавшийся от удара в межрожье деревянной долбней, которой глушат
рыбу на мелководьях по первольду. Он подбежал к бабке и выхватил из-под ее
веника "мусор Истории", который сложил все вместе - обе половинки запретной
фотокарточки и порушенные полукружья пластинки и тут же упрятал на дно
старинного, красного дерева, китайского чайного ларца, где хранились в
неистребимых ароматах чая домовые "ценные бумаги". Квитанции нескольких лет на
сданные - "за так" - сельхозпродукты: картошки, мяса, молока, яиц, шерсти. И
еще полагалось ежегодно сдать с подворья по две свежепосоленные шкуры, про
которые мужики с опаской шутковали промеж себя: "Одну, хозяин, сдери с себя, а
другую - с женки своей, и будут квиты с государством."
В том же ларце хранились - вместо денег - и никогда не выигранные облигации
ежегодных оборонных займов "ОСОАВИАХИМа".
И, словно смертельно раненный медведь, облапив руками голову, он заметался
по горнице, распаляя себя каким-то нечеловеческим ревом:
- Не верю! Не ве-ерю-ю!
Вот тогда-то я и увидел его - такого огромного мужичища - впервые в
слезах...
* * *
Приметив у отца свежую синеву на висках, я стянул с его головы кепку и - не
узнал своего любимого Коня Горбоносого без его, такой знакомой для меня, косой
черной челки прямых волос ( он никогда не зачесывал волосы назад). И вот,
желая развеселить как-то его, все еще стоящего надо мной на коленях, я шлепнул
ладошкой по стриженой маковке:
- Какой смешной-то ты, папка... как огурец стал!
- Так легче считать будет нас, сынка, - отшутился отец. И поднявшись с
колен, серьезно добавил. - К тому ж, огуречным чохом смелее будет ходить в
атаку. - А насухо утерев кулаком глаза, он резко передернул плечами и
посетовал мне, как ровне своей. - Фу, как разнюнился, аж с души воротит... Ну,
а мамке-то об этом совсем не обязательно говорить. Так уж как-то само
получилось.
- Папка... Конь Горбоносый! да матюгнись ты, как следно, и тебе -
полегчает, - дал я совет по-свойски, как у нас было заведено шутить.
(Отец не любил, да и не умел сквернословить: при его могутной стати с его
величавым горбатым носом божьего воина на длинном лошадином обличии было как-
то - "не к лицу". А если когда бывало и вспылит: "Маткин берег - батькин
край!" - разве это матюг?)
От такой сыновьей подсказки отец снова сграбастал меня в свои сильные
объятия и, вскочив на ноги, закружился на заулке со мной на руках, как с
маленьким, громко, сквозь слезы, не то плача, не то хохоча:
- Сынка, я и не догадывался, какой чудной-то ты у меня растешь!.. - И мне
казалось, что я не на двух руках сижу, а верхом кружусь на грохочущем весеннем
громе и на мою двухвихровую маковку льется теплый дождь из отцовских слов. -
Да как же мне теперь, кровушка ты моя, расстаться-то с тобой, а?
И вот, как бы "понарошке" всласть поборовшись, как когда-то любили
дурачиться в ожидании ужина, мы продолжили извечное мужское дело - запрягать
лошадь. Отец незаметно подмогнул перекинуть дугу на другую сторону, и у меня
сразу дело пошло на лад. А когда я стал засупонивать клещи хомута, он
подсказал завязать супонь на "бантик". И показал, как это делается:
- Это тебе, сын, "узелок" на память. Мало ль какая беда может приключиться
в дороге...
(А вот как расстались мы с ним в последнюю минуту, у меня начисто выпало из
головы, о чем буду потом жалеть всю жизнь. Только одного не знал я тогда, а
сколько ж этой жизни мне будет отмерено в рушащемся мире?)
Очнулся я в горьких слезах, лежа ничком в телеге (видно, уложил в нее меня
отец при своем уходе), от громовой духовой музыки, которая трубно выговаривала
словами:
"Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне..."
Видно, частовские неуемные певуны, уходя в свое Бессмертие, достали-таки
своей полюбившейся песней до самых печенок городских железнодорожных трубачей,
которые с ходу подхватили запоминающуюся мелодию.
Там же тревожно и прерывисто гудели, как бы остановившиеся, паровозы. И
только один протяжный гудок удалялся в сторону Мстинского моста: подальше от
войны... Это маловишерцы, а с ними и наши частовские мужики и парни уезжали в
Череповец - на формирование. Чтобы уже через день-другой пуститься в обратный
путь - на Запад: навстречу своей грозной неминучей планиде.
Посреди заулка в великой скорби стояла старуха, прогнавшая меня утром с
крыши дома. Застигнутая музыкой на полдороге к огороду, она вслушивалась в
убывающий печальный гудок, истово крестилась и вполголоса просила небеса:
- Спаси и оборони их - от всех напастей и напрасных смертей...
Мельников вернулся ко мне, куковавшему на Поперечной улице, уже поздно, еще
больше прежнего, как мне погляделось, кособочась и приволакивая парализованной
ногой. И правая рука висела - плеть-плетью. От его прокуренных усов попахивало
и винцом, что говорило: частовской председатель проводил на войну своих
однодеревенцев - честь по чести. Понюхавший вволю пороху и отравляющих газов в
первую мировую, а затем и в гражданскую, он, как и мой отец, ошарашил меня
незнакомыми словами войны:
- Раз объявлена "тотальная мобилизация", видно, теперь не скоро закончится
эта кровавая катавасия... Ох, не скоро, - сказал он устало, скорее для себя,
словно бы продолжая разговор на вокзале с провожающими после проводов земляков
района.
Широко оглядев над головой небо и убедившись, что оно было пусто в его
близости, он снова тяжко вздохнул и только после этого соизволил узреть меня:
- Ну вот, родный (дядька Егор всех так называл: "родный, родная"), и
остались теперь мы, тыловики: старые да малые.
С этими тяжкими думами мы и снялись со двора Поперечной улицы, которых в
деревенском городке районного масштаба было - ни много, ни мало - тринадцать.
Одинаковых, как две капли воды: с голубыми палисадниками, полнившимися
роскошными шапками георгинов, - летом и осенью с непролазной грязью проезжей
части улиц. А так как стояла макушка небывало жаркого лета, то и ехали мы по
затравенелой улице к себе домой в начисто обезмужиченную деревню, как сказал
дядька Егор, "крепить тыл обороны страны".
Вотчину маловишерских железнодорожников - деревню Глутно мы проехали уже с
первыми петухами. Морило в сон. Лошадь, воспользовавшись попустительством
юного ездового, брела сама по себе, хватая на выбор макушки высоких трав,
росших по краю канавы. Дядька Егор, не выдержав такого дорожного
разгильдяйства, потребовал своей председательской властью - навести порядок:
- Да ожги ты ее, каналью, кнутом!
Я хватился было за кнут - и не нашарил его в телеге, чем в конец
раздосадовал Мельникова:
- Потерял, что ли?.. Да остаться в дороге без кнута так же зазорно, как и
потерять спьяну шапку. - И чихвостил он меня, пока комарье, озверевшее на
восходе солнца, не загнало его с головой под домотканое дерюжное покрывало.
Не выдержав комариного содома, я тоже вскоре убрался под покрывало. Так и
ехали мы - от Глутна до Селищи, кимаря втемную под трескучие наигрыши ночных
луговых музыкантов-дергачей, пока я не прохватился от дикого ржания лошади,
ломкого хряста кустовья и всполошенных криков председателя, которого как бы
угораздило ухнуть куда-то в преисподнюю:
- Ой-ой, мать твою!..
Так оно и случилось. Лошадь, предоставленная сама себе, рванула вскачь под
гору Крутого Ручья, а опущенные вожжи, намотавшись на замазученную дегтем
ступицу переднего колеса, резко затянули ее на сторону. И мы с полного маху
ухнули с кручи насыпи перемычки вниз, где телега, разъявшись с передками,
повисла кверху колесами на сломанных ольшинах. Дядька Егор, слышно было, в
жерле оврага брязгался в воде, чертыхаясь и кляня все и вся на свете. Я же
оказался перед самой мордой лошади, которая вместе с передками лежала на боку,
удушливо храпя и беспомощно лягаясь в воздухе ногами.
Вот тут-то и сгодился мне отцовский "узелок на память". Я дернул за конец
супони, завязанной на "бантик", и лошадь сама распряглась. Затем и встала на
ноги, с благодарностью отфыркиваясь. А я тем временем скатился вниз -
вызволять из жерла оврага знаменитого на весь район Мельникова.
Потом немощного председателя - под руку и охромевшую лошадь - в поводу я
повел на дорогу, выискивая пологость вздыма. Будто из окружения, мы
пробирались по тучному, рослому дудняку. Дядька Егор, до нитки мокрый и все
время оскользываясь и спотыкаясь лядащими ногами, шел и костил меня на чем
стоит свет:
- ...Мужик ты еще херов, вот ты кто! - И с этими словами зашелся навзрыд,
словно бы жалуясь солнцу, уже рассевшемуся на макушках елок над обочью оврага.
- Да с кем я теперь остался-то, а? Как жить-воевать теперь будем, а?
Кружным путем, наконец, выйдя на дорогу, мы принялись вызволять телегу из-
под кручи с помощью лошади. По подсказке моего, пожившего на свете, путника я
приладил к гужу распущенные вожжи и на них мы - с великими трудами - подняли
на насыпь перемычки сперва передки, а затем и саму телегу...
И кому было знать, что Крутой Ручей между деревень Глутно и Селищи в
двадцати верстах от Частовы (через Подмошские болота с обитаемыми
старообрядческими скитами) вскоре станет необоримой преградой для
победоносного шествия на Восток грозного врага. В одну из ранних морозных
ночей немцы, перейдя по первольду Волхов, на рассвете ворвутся в Малую Вишеру,
замысливая сходу выйти во второй эшелон обороны уже определившегося
Волховского фронта. К реке Мста, где правый ее берег - мы, мальчишки, старшие
сестры и наши матери (и не только Частовы, но и всей глубинной округи),
отложив все колхозные дела, с начала июля и до половины августа, под началом
молоденького лейтенанта с перевязанной рукой на черной помочи на груди,
подпоясывали, будто широким солдатским ремнем - противотанковым рвом. А когда
он был готов, оказалось, по каким-то военно-стратегическим просчетам,
укрепляли не тот берег. И все наши праведные труды - пошли коту под хвост. То
есть не в пользу обороняемых, а против них. Мы обустраивали, как нам внушал
наш раненый лейтенант и его проверяющие со "шпалами" и саперно-инженерными
знаками отличия в петлицах, по всем правилам военного искусства, правый берег,
а на поверку вышло, надо было б кромить заступами и ломами - левый:
неподатливый каменисто-глинистый Грешневский кряж. Левый, черт побери,
левый!.. Ну да, что там, задним-то умом мы все крепки.
Так в начале ранней зимы сорок первого немцы нежданно-негаданно оказались у
Крутого Ручья, где всю ночь будет греметь жаркий бой, в котором непрошеных
гостей отбросят на станцию. А через какое-то время их снова водворят за реку
Волхов в сырые окопы, в которых они потом будут воевать-горевать без малого
три года.
Рубеж у Крутого Ручья отстаивал и наш частовский красноармеец Филипп
Голубев, который еще совсем недавно толково командовал бабьей ратью
овощеводческой бригады, непревзойденный косарь-машинист на сенокосилке, отец
троих чад.
За отличие в том сражении ему была предоставлена краткая побывка в родных
палестинах при личном оружии. Помню, как он в морозных сумерках, весь
заиндевелый, поднялся на припорошенный первым снегом частовской кряж с
окровавленной повязкой на голове, видневшейся из-под шапки, с отечественным -
в диковину - автоматом на плече, на ремне - кинжал-штык, а на груди совершенно
новенькая медаль "За отвагу", которую, видно, перед деревней перецепил с
гимнастерки прямо на нагольный полушубок, чтобы все видели, что он не просто
Филипп Ионыч, а защитник Отечества! И нам, мальчишкам, сразу загорелось - хоть
завтра! - пойти добровольцами в Красную Армию...
Но если сказать откровенно, первыми, кто выиграли бой уже на второй день
войны у Крутого Ручья Волховского фронта, еще не значащегося ни в каких
оперативно-стратегических планах - ни в наших, ни во вражьих штабах, это были
мы с дядькой Егором. Вызволяя из-под кручи телегу, давясь слезами и соплями, я
разом отыграл все свои мальчишьи забавы. С этого утра я уже стал мужиком и все
колхозно-оборонные работы деревни теперь станут и моими работами, пока не
кончится война. А когда она кончится, еще никто об этом не загадывал...
Мельников, глядучи со слезами на глазах на мою путанную расторопность,
видно, воспрял духом, уверяясь, что еще будет ему с кем "крепить тыл обороны
страны":
- Ну, родный, гляжу, с тобой не пропадешь, - сказал он, посмеиваясь своими
карими, с теплиной, глазами. - Хошь и прокатил ты председателя с ветерком по
кустовью да овражью, но и сметку крестьянскую не запамятовал. И как это ты
сумел догадаться ментом рассупонить лошадь-то вовремя? Не сделай этого враз -
могла б и задохнуться. Ничего не скажешь - мужик, молодчага!
- А-а-а, - махнул я рукой и нарочито обыденно ответил: - Вспомнил папкин
"узелок на память". Делов-то!
- Ишь ты, - удивился Егор Екимыч, - это горазд хорошо, когда есть чем
вспомнить своего папку.
Вот уже осталась позади, после Крутого Ручья, опрятная деревня Поддубье,
где живут скуповатые и ходкие на ногу маловишерские "молоконосы", которым с
берестяными заплечными кошелями на три четвертных бутыли десять верст до рынка
- не расстояние.
Как только въехали в частовские заречные угодия новинской бригады,
Мельников, уже обсохший на все жарче разгорающемся солнце ядреного лета,
обратился ко мне на полном серьезе, как к своей ровне:
- Дак, запевай, Гаврилыч, папкину любимую песню - она щас, как никогда,
кстати. Да и в деревне пускай слышат, наши, мол, едут! Так уж у нас,
частовских, было заведено от веку.
И он первым затянул своим дребезжащим, как расщепленное полено, голосом:
- Трансвааль, Трансвааль...
А в это время, как потом узнаем - в Первопрестольной, на Белорусском
вокзале, набирала силу уже другая, нашенская песня:
"Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!"
Вскоре мы получили от отца красноармейский привет - "треугольник". Первое и
последнее письмо, в котором он писал перед отправкой на фронт: срочно получил,
мол, "швейную машинку", а понимать надо было - "максима". Он был кадровым
пулеметчиком во время военных сборов на переподготовку, и "максим" ему был по
плечу.
А уже в середине августа, на частовской престол - яблочный Спас, Мастака-
пулеметчика не стало. Погиб на Ленинградском фронте... Правда, об этом мы
узнаем уже после войны из посмертного извещения, в котором говорилось, что он
погиб "смертью храбрых" под Красным Селом.
В те же срединные августовские жаркие дни сорок первого пал и наш
златоглавый Вечный Град - Новгород, вознесясь в небо в аспидно-жирных свивах
чада, терпко пропахшего темными веками...
 Когда читала его "Журавлиные плясы", думала, какой же он - автор этих
светлых, пахнущих свежескошенным сеном строк.
И вот довелось познакомиться.
Иван Гаврилович Иванов, "Иван Иванов-Мстинский, русский из Пярну", так он
себя именует в шутку, у нас в редакции "Чела".
Моложавый, веселый, с прекрасным чувством юмора, привез много своих новых
произведений, одно из которых мы сегодня печатаем.
Друг Иванова, поэт Давид Самойлов, сказал о нем:
"Много видел, много знает. Много умеетю.
Я бы добавила: "Прекрасно чувствует Родину, бережет корни народной
культуры, радеет за чистоту слова."
Тамара Сигалова
Когда читала его "Журавлиные плясы", думала, какой же он - автор этих
светлых, пахнущих свежескошенным сеном строк.
И вот довелось познакомиться.
Иван Гаврилович Иванов, "Иван Иванов-Мстинский, русский из Пярну", так он
себя именует в шутку, у нас в редакции "Чела".
Моложавый, веселый, с прекрасным чувством юмора, привез много своих новых
произведений, одно из которых мы сегодня печатаем.
Друг Иванова, поэт Давид Самойлов, сказал о нем:
"Много видел, много знает. Много умеетю.
Я бы добавила: "Прекрасно чувствует Родину, бережет корни народной
культуры, радеет за чистоту слова."
Тамара Сигалова
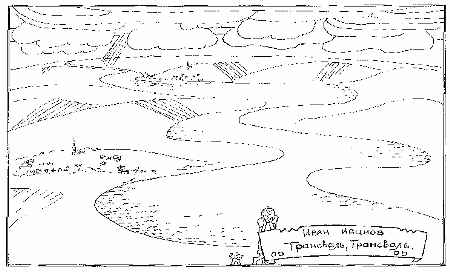 (Из начальной автобиографии - Автор)
Родился я в разломное для русской деревни время - в преддверии сотворения
колхозов, в 1929 году на берегу бегучей реки Мсты: среди болот ягодных и лесов
знатно грибных. А еще точнее: в веселой - во все времена - деревне Частова,
колхоз имени Ворошилова, в полста километрах от Града Великого (Новгород), еще
недавно, непролазными, кривыми дорогами до большака. И сносно обустроенными
уже на излете "застойных" лет, когда областное начальство - большое и малое -
вошло во вкус дачного сервиса, чему способствовала благоуханная мстинская
природа...
Рос в семье мастера деревянных дел высочайшей руки, поэтому и моими
любимыми запахами детства была мешанина, настоянная на сухом мореном дереве,
роговом клее, живичном скипидаре и вареном масле (натуральная олифа). Как
говаривал Манкошевский столетний столяр Разгуляй, который был с моим дедом
дружки-приятели: "Вдыхай с младенства такой дух и ты, непременно, станешь
Мастером!"
Не скрою, и мне кое-что перепало на этом семейном ристанье. От отца перенял
боготворение к - Его Величеству "Струменту"! После поделок я тоже с какой-то
истовостью "направляю" его: точу, развожу, наващиваю. И только после этого
водружаю его на свое место - "отдыхать" до другого раза, чтобы - когда надо -
снова взять в руки, по живучим словам все того же столяра Разгуляя, которого
уже давно нет: "Как гармонь в престольный праздник!"
Мой отец Гаврила Иваныч Иванов, что ж касательно дерева, право, был на все
руки - хват: плотник, столяр, колесник, бочар. А какие он гнул выездные,
свадебные дуги, про которые еще в деревне - не без гордости за мастера -
говаривали: "Чур, не оставляй на заулке - проезжий цыган украдет!" И за что бы
он ни взялся, все делал только - на ять, да еще и с какой-нибудь чудиной.
Прялку, коромысло ль бывало смастерит - обязательно положит на поделку резной
узор, как клеймо мастера.
И еще отец был горазд на песни, которых знал несметье и через это считался
первым запевалой деревни. Хотя он скорее был неверующим (как и мой дед,
который в оправдание своему прохладному отношению к церковным обрядам
говаривал: "Бог живет в каждом из нас, и судят о нем по его земным деяниям"; и
вместо того, чтобы стоять в заутрене перед образами при зажженных свечах, шел
с топором на плече к вдове или солдатке - поправлять крыльцо). Но он охотно
пел и на клиросе, пока не была разорена наша Манкошевская церковь - краса
дивная: она и по сей день стоит на том же месте. Только уже никого не радуя, а
как бы в укор безумному прошлому времени - без креста и колокольни. Печально
смотрится с зеленого угора в живое "зеркало" пока еще незамутненной, бегучей
Мсты, как бы вымаливая у опрокинутых в реку синих небес - прощения умершим и
вразумления живым...
И вот в пору благоденствия Манкошевской "красы дивной" ее приходской
батюшка, святой отец Василий, не раз говаривал своему уже возмужавшему
благонравному мирянину по прозванию Мастак:
- Сын мой, тебе не плотником быть, а впору б служить главным певчим
диаконом при градском соборе Святой Софии. Право, не голос у тебя, человече, а
сущая - иерихонская труба!
Оттого, что мужики по праздникам пели на клиросе, и слыла наша деревня во
всем мстинском побережье - дюже песенной. Бывало, на вечерней воскресной заре
запоют частовские у себя на Певчем кряжу, - и их голоса в слаженном спеве было
слыхать по течению чуткой реки - за двенадцать верст, в Полосах на мельнице.
Но чаще они пели зимними вечерами. На мужских посиделках у нас в отцовской
столярне (в прирубе между хлевом и домом), которая служила в деревне как бы
местным Наркоматом Иностранных Дел, где каждый - пахарь, лесоруб, столяр,
кузнец, шерстобит - смог бы сойти за наркома. Особо для такой должности
годился пастух-овчар Иван Наумыч с его апостольской длинной бородой с проседью
и благопристойным обличием святого Ионы Оттинского, именем которого был назван
монастырь на краю Красноборской пустыни.
Частовской овчар прожил долгую многотрудную жизнь - целое столетие, трудясь
в одной и той же ипостаси: с измальства и до последних своих дней: пас овец.
Они его чуть было и не погубили, когда он с бесстрашием, в одиночку, будто на
медведя с рогатиной, выступил в защиту исконной романовской грубошерстной
овцы-шубницы, когда лихие преобразователи вселенной насаждали по худосочным
колхозам северного края завезенных из Средней Азии курдючных баранов, которые
никак не хотели приживаться во влажном климате Предильменья - туберкулезно
кашляли и дохли. А на местных прытких барашков в ягнячью их пору было наложено
строжайшее табу. Их поголовно легчили под надзором районной ветслужбы.
Так во мстинском побережье была "вырублена под корень" романовская овца,
которая из веку в век служила в лесном крае становой жилой всего уклада жизни.
И от этой скорой порухи, не заставив долго себя ждать, в деревню, как-то уж
очень зримо, заявилась незваной гостьей сирая обездоленность. Вместо привычных
тулупов и полушубков сельчане стали обряжаться - в арестантские "куфайки",
вместо валенков в зиму - обулись в охламонистые резиновые чеботы, наживая
ревматизм. И до стыдобы было глядеть, как мужики - в мороз и вьюгу - голоручью
ехали в лес за дровами или на дальние Ильменские пожни за сеном. А главное,
больше не томились в обжаристых горшках, в загнетках печей запашистые "шти" с
бараниной, которые на второй день становились еще ядренее. Так бездумным
уничтожением романовской овцы селяне сразу лишились многих жизненных благ.
А супротивника чужеродной скотины, замахнувшегося вилами на огэпэушника,
сопровождавшего веткомиссию по легчению барашков местной породы, со словами во
святом гневе: "Убью, гепею-перепею!" - чуть было не сослали. Да не нашлось для
него такой чужбины, где бы "Макар коров не пас". А при нем потомственному же
пастуху такая высылка не грозила б неволей.
К тому же и деревня встала горой за своего непревзойденного мастера
берестяных дел. Лучше и краше его лаптей, ступней, заплечных кошелей, лукошек
- никто не плел в округе. Слыл он в деревне и как самый культурный муж! - без
претензий на какую-либо образованность: вместо личной росписи ставил крестик.
И поди ж ты, никто, даже поп местного прихода, так не жалел свою жену, как их
овчар. Не обращая внимания на насмехания сельчан, носил зорями на коромысле
воду из колодца своей "барыне" Ефросинье. На такую - по разумению частовских
мужиков - "постыдность" и поныне еще никто не снисходил в Частове.
Зато, когда он тихо отошел в мир иной, сразу все спохватились, что теперь
им будет недоставать благородного овчаря. Поэтому и похоронили его, как
"заслуженного" аборигена, наравне со старейшей учительницей Ниной Ивановной
Никитиной, со всеми почестями: с музыкой, востребованной из города. Этим ему
была оказана от благодарного частовского "обчества" как бы последняя ему
пастушья гостевая "череда" с признательными словами: "Пусть земля будет тебе
пухом, незабвенный наш Иван Наумыч. Аминь."
Вот такой-то всеми уважаемый человек (по призванию - овчар, прошедший в
жизни - огонь, воду и медные трубы) и коноводил до войны на мужских частовских
посиделках в столярне у Гаврилы Мастака за наркома местного НИДа. И по сей
день старожилы деревни помнят, с какой дипломатичной выходкой встревал он в
споры-разговоры, не исключая и мирового значения: "Покойничек, Петра Захарыч
(или: Кузьма Андреич), не даст соврать..." И пошел-поехал рассказывать были-
небыли из своей служилой молодости. И про сопки Маньчжурские, где "в одна тыща
девятьсот четвертого года ходил в штыковую на японский чудо-пулемет..." И про
"ерманский" плен - пятнадцатого года первой мировой войны, отбывая его у
"австрияков". Где за неоднократные побеги, чтобы пуститься "пехом" к снившимся
берегам своей бегучей Реки, беспортошного беглеца исправно и добросовестно, с
ритуальным обливанием холодной водой, порол в поте лица ременными вожжами -
больносердный к своим сытым лошадям - щекастый хозяин - "австрияк".
И за вечер-то, бывало, частовские мужики в горячих спорах - так и этак
перекроят мир, деля его на страны, которые, как им того хотелось бы, были "за
нас": это - Красный Китай, где уже какой год шла гражданская война с
Гоминьданом; Абиссиния - незнамо где находится; и (как бы мы сейчас ни
говорили, а тогда была для нас, особенно мальчишек) святая и героическая
Испания, в небе которой на стороне республиканцев сражался и частовской -
"Чкалов": доброволец, военный летчик-истребитель Николай Жуков. И на страны,
которые были "против нас": это - одноосная телега на трех колесах "Берлин-Рим-
Токио".
Обычно такие споры-разговоры заканчивались трогательной песней о каких-то
неведомых бурах, попавших в большую беду: "Трансвааль, Трансвааль, страна
моя!" Эту песню-сказ однажды привез мой дед по отцу Иван Иваныч Иванов (первый
грамотей и книгочей в округе) из - "Большой деревни" - Питера, куда ездил с
частовской плотницкой артелью на летние заработки. И всякий раз пели ее со
священным огнем в глазах, будто страна "Бурия", как называли тогда ЮАР,
находилась где-то за Красноборскими синими лесами и нуждалась в срочной
выручке частовских "санапа-лов "с дрекольем в руках.
Мне, тогдашнему дошколяру, всегда казалось, что эту песню я знал еще до
своего рождения, а, может, и родился прямо из нее...
Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне.
Под деревцом развесистым
Задумчив бур сидел.
- О чем горюешь, старина,
Чего задумчив ты?
- Горюю я по родине,
И жаль мне край родной.
Сынов всех десять у меня:
Троих уж нет в живых,
А за свободу борются
Семь юных остальных.
А старший сын, старик седой,
Убит уж на войне;
Он без молитвы, без креста
Зарыт в чужой земле.
Мой младший сын - тринадцать лет,
Просился на войну.
Решил я твердо: нет и нет,
Малютку не возьму.
Но он, нахмурясь, отвечал:
"Отец, пойду и я!
Пускай я слаб, пускай я мал -
Верна рука моя...
Отец, не будешь ты краснеть
За мальчика в бою -
С тобой сумею умереть
За родину свою!.."
Я выслушал его мольбу,
Обнял, поцеловал.
Малютка в тот же день со мной
Пошел на вражий стан.
Однажды при сражении
Отбит был наш обоз,
Малютка на позицию
Ползком патрон принес.
......................
На тех мужских посиделках мы, мальчишки, тоже были завсегдатаями. Мы росли
на них. Жались к отцовским коленям и клятвенно умоляли глазами: случись беда
со страной - война, и мы сделали бы то же самое, как и далекий "малютка" из
песни...
(Примечание: Во время англо-бурской войны (1890-1902 гг.) симпатии русского
народа были на стороне буров - народа, пострадавшего от нападения английских
колониалистов, что и обусловило появление этой песни.)
И все-таки Испания мне была ближе. Хотя бы потому, что наш частовской
"Чкалов", Николай Жуков, с моим отцом - были дружки-приятели по ЦПШа, как они
в шутку называли свою церковно-приходскую школу. Да еще и - герой! По
возвращении из Испании он - Жуковской закваски: толстогуб, смугл, да еще и до
черноты пропеченный на ненашенском солнце - приехал на побывку к себе в
деревню с тремя кубарями в петлицах и орденом "Красного Знамени" на груди. И
как тут было не втрескаться с первого взгляда нашей молоденькой городской
училке Зое Андреевне.
А уже через неделю в деревне - нежданно-негаданно - сыграли веселую
разливанную свадьбу, на которой частовской гость-герой подарил своему
закадычному дружку детства, и как запевале деревни, новую песню, которая,
казалось, и сложена была для могучего голоса моего отца. И когда мой отец
вывел первые его слова, по спинам разгоряченной застолицы забегали цепкие
холодные мураши, а в рамах окон нового клуба тоненько зазвенели стекла:
- Гренада, Гренада, Гренада моя!
И на подхват запевале частовские дружно загалдели:
- Горько, горько!
- Подсластить надоть!
Да, отец умел и любил не только от души работать, но и широко гульнуть. И
особенно на моих именинах, на которые приглашалась вся деревня.
Так в день моего рождения - 22 июня в сорок первом году - и застал вскопе
за столом, под яблонями-полудикарками, частовских мужиков срочный
военкомовский вестовой, прискакавший пополудни на взмыленной лошади, зычно
выкрикнув из седла:
- Мужики, шабаш веселью! Война уже с утра идет...
И Коленька Лещиков по прозванию - за свой малый рост - Наперсток (через это
он браковался для кадровой службы), видно, с радости, что и его черед пришел
послужить Отечеству, разудало пропел:
- Эх, пить будем, и гулять будем,
Смерть придет - помирать будем!
А седовласый вестовой с двумя кубарями в петлицах, уже спешась с лошади и
развернув давно заготовленные списки, громко и внятно выкрикивал:
- Абраменков Владимир Александрович!
- Ананьев Василий Иванович!
- Андреев Тимофей Афанасьевич!
- Васильев Иван Васильевич!
- Захаров Дмитрий Петрович!
И по всему-то алфавиту находились фамилии частовских мужиков и парней. Да
еще и не по одной, все больше по две:
- Голубев Александр Ионович!
- Голубев Филипп Ионович!
- Ильин Иван Дмитриевич!
- Ильин Александр Дмитриевич!
Дмитриевых Ильичей так трое и значилось: Василий, Павел, Николай! Столько
же сыскалось и Максимовых братанов Максимовичей: Осип, Иван, Александр!
А чернобровых Жучат (Жуковых) Николаевичей и того более, сразу уходило
пятеро: Тимофей, Никандр, Николай, Иван, Михаил! И это при живых-то еще
родителях... Каково же матери-то было пережить такую, свалившуюся на ее сивую
голову, беду-разлуку? Сколько ж надо было иметь на всех слез?
Боже, сколько ж мужиков-то было в довоенной Частове? И это не считая тех,
кто уже служил кадровую. И тех зеленых подростышей, которые теперь будут
уходить из деревни - слой за слоем - целых четыре года. И этот неотвратимый
отток человеческих жизней начнется уже очень скоро - через каких-то несколько
недель. Как только огненный вал войны пригрохочет к стенам Вечного Града. И
вслед за своими отцами и старшими братанами уйдут из деревни добровольцами и
семнадцатилетние.
До прихода сибиряков, которые с первыми морозами - в новых "с иголочки"
белых нагольных полушубках - надолго засядут в надежную оборону у Синего
Моста, частовские мальчишки, все до одного, погибнут в высоких травах
предыльменских пожен, захлопнув за собой тяжелую дверь в Вечность... Но
похоронки же на них в их деревню, до которой рукой подать, пойдут каким-то
кружным путем. Матери их получат только после войны. Видно, чья-то разумная
голова рассудила: пусть мертвые мальчики немного подрастут хотя б во Времени.
Все не так будет больно их матерям.
Но это будет потом... Сейчас же частовские мужики и парни - прямо из-за
именинного стола - только еще собирались на Великую бойню. И для многих - о
чем они еще боялись загадывать - поименно оглашенный, державный реестр живых
душ был уже поминальником...
Ленинградский военный округ в те годы значился прифронтовым, и сборы на
войну были недолгими. Уже на другой день вся деревня, от мала до велика -
матери с младенцами на руках, старичье с клюками в руках, - переправившись на
пароме, высыпали на заречный Новинский луг, где зелеными волнами ходили
высокие тучные травы, как никогда вымахавшие в этом году. Но они никого не
радовали. Да и не на сенокосную толоку срядились сегодня частовские косари с
заплечными сидорами на рушниках. На фронт уходили частовские косари. Среди них
мельтешил и вчерашний седовласый нарочный-военкомовец, беспрестанно крича
охрипшим голосом:
- Товарищи, выходи - стройся! - но его голоса из-за бабьего причитания
никто не слышал.
Мало того, гармонист Василий Ильич (по-деревенски - за его благонравие -
Васенька Ильин), словно себе наперед - на вспомин души, а может, и в укор на
недавнее братание с нацистской Германией (потешный договор о "ненападении"),
вскинул перед собой, как свадебную дугу, свою нарядную тальянку с медными
планками и такое залихватское выдал на прощание, что будь поблизости
Манкошевский погост - и мертвые поднялись бы из могил. Ну, как тут было
устоять на месте сдвуродным высоченным брательникам, холостякам-весельчакам:
Николаю Васину, деревенскому искуснику на всех струнных инструментах и
голосистому школьному учителю Алексею Голубеву. Схватившись за руки, они -
всему назло - пошли по лугу в размашистой паре выделывать своими великаньими
ногами скоморошьи кренделя и, будто в роги, трубно издивляясь:
- Русский, немец и поляк
- танцевали краковяк:
Поляк - поскользнулся,
Немец - улыбнулся, а
Русский - матюгнулся!
И опять послышался настойчивый голос охрипшего военкомовца:
- Товарищи!.. Ворошиловцы, выходи - стройся!
И опять никакого внимания на чрезвычайные государственные хлопоты. Все были
заняты - собою, родней своей, однодеревенцами.
"Оглохли, что ли, наши мужики и парни? - недоумевали мы, мальчишки, в душе
радуясь войне. - Теперь-то... раз частовские идут на фронт, будет фашистам
пузатым-рогатым (какими их рисовали тогда на плакатах) - и за Абиссинию, и за
Испанию - будет! Только жаль, что нас с собой не берут, а то еще и не так было
б!.."
И как бы в ответ на наше недовольство мы услышали могучий голос моего отца:
- Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне...
На голос запевалы деревни, отозвавшегося на увещевание военкомовца,
частовские мужики и парни, вырываясь из объятий матерей, жен, сестер, невест,
стали сбегаться кучно, как пчелы на жужжание своей матки начинают сбиваться в
отлетающий рой.
И вот высыпавшая на заречный луг деревня строго разделилась на два роя - на
неистово поющих мужиков и в беспамятстве плачущих баб. И когда мужичий рой,
видно, почувствовал, что набрал силу в песне, лохмато - медведем - шевельнулся
и покатился по лугу, приминая высокую траву, которая останется в это лето
нескошенной.
Так песня о каких-то далеких бурах и увела из Частовы - деревни русской,
деревянно-колхозной - подчистую всех косарей на войну.
За поющими мужиками вдогон двинулся обоз, в подводчиках которого были мы,
мальчишки, чтобы отвезти наших отцов, дядьев, крестных, старших братанов на
станцию Малая Вишера, а затем обратно пригнать порожние подводы.
За Новинским глубоким урочищем мужики расселись по телегам, и мы поехали на
войну. Мои попутчики допили - на посошок - прихваченные отцом с моих именин
пару поллитровок, но хмель никого не брал. И петь, видно, никому не хотелось,
молчать тоже - все говорили об оставленных незавершенными домашних делах:
- Как-то сей год управятся тут наши благоверные без нас?
- Надо ж было такому случиться: бабы наши только сшили себе ситцевые
сарафаны для страды, а мужики отбили косы, и нате - война!..
- Поди, знай, сумеем ли мы теперь управиться с военными хлопотами, хотя б к
уборке огородов, - сетовали новинские косари, все еще теша себя надеждой о
своем скором возвращении по домам с Победой "на чужой земле", как пелось еще
вчера в песне "Если завтра война..."
На станцию мы приехали уже с восходом солнца. Телегу поставили на заулок
дома одной из каких-то "поперечных" улиц. Моих седоков сразу же увел куда-то
военкомовец, который ехал с нами. А на его верховой лошади мне было позволено
восседать в настоящем кавалерийском седле. И за дорогу в каких только я -
мысленно - не побывал сражениях: всех врагов победил! Можно б нашим папкам и
оглобли заворачивать к дому, но они ушли на сборный пункт. Отец обещал придти
попрощаться. И велел потом ждать нашего председателя Егора Мельникова, с
которым и поеду домой.
От нечего делать я распряг лошадь и поставил кормиться ее к вчерашнеукосной
траве в телеге. А обследовав двор, по приставной пожарной лестнице
вскарабкался на конек крыши: чтобы определиться, где я нахожусь, но старуха,
копошившаяся на огороде, сердито пристыдила:
- Чай, не маленький, штоб по крышам-то лазить. Поди, за мужика у матки в
доме остался?
Посрамленный, я завалился в телегу, вперился остановившимися гляделками в
синее небо и стал ждать отца. А он все не приходил... Где-то неподалеку играла
духовая музыка, перекрывая станционные гудки маневровых "кукушек" и громовой
лязг буферов вагонов, спускаемых с "горки" (про "кукушек, буфера и горку" я
узнаю намного позже, когда в зрелые годы стану работать на "железке"
рефрижераторным механиком). Хотя и думал тогда о себе, что я - "вечный!", но и
не загадывал, что буду так долго жить - целых еще полстолетия. А для начала
надо было перемочь страшную войну, которая только разрасталась - у далеких и
неприступных, как писалось тогда в газетах, границ западных. "Далекие и
неприступные рубежи наши" вскоре окажутся - блефом.
(Из начальной автобиографии - Автор)
Родился я в разломное для русской деревни время - в преддверии сотворения
колхозов, в 1929 году на берегу бегучей реки Мсты: среди болот ягодных и лесов
знатно грибных. А еще точнее: в веселой - во все времена - деревне Частова,
колхоз имени Ворошилова, в полста километрах от Града Великого (Новгород), еще
недавно, непролазными, кривыми дорогами до большака. И сносно обустроенными
уже на излете "застойных" лет, когда областное начальство - большое и малое -
вошло во вкус дачного сервиса, чему способствовала благоуханная мстинская
природа...
Рос в семье мастера деревянных дел высочайшей руки, поэтому и моими
любимыми запахами детства была мешанина, настоянная на сухом мореном дереве,
роговом клее, живичном скипидаре и вареном масле (натуральная олифа). Как
говаривал Манкошевский столетний столяр Разгуляй, который был с моим дедом
дружки-приятели: "Вдыхай с младенства такой дух и ты, непременно, станешь
Мастером!"
Не скрою, и мне кое-что перепало на этом семейном ристанье. От отца перенял
боготворение к - Его Величеству "Струменту"! После поделок я тоже с какой-то
истовостью "направляю" его: точу, развожу, наващиваю. И только после этого
водружаю его на свое место - "отдыхать" до другого раза, чтобы - когда надо -
снова взять в руки, по живучим словам все того же столяра Разгуляя, которого
уже давно нет: "Как гармонь в престольный праздник!"
Мой отец Гаврила Иваныч Иванов, что ж касательно дерева, право, был на все
руки - хват: плотник, столяр, колесник, бочар. А какие он гнул выездные,
свадебные дуги, про которые еще в деревне - не без гордости за мастера -
говаривали: "Чур, не оставляй на заулке - проезжий цыган украдет!" И за что бы
он ни взялся, все делал только - на ять, да еще и с какой-нибудь чудиной.
Прялку, коромысло ль бывало смастерит - обязательно положит на поделку резной
узор, как клеймо мастера.
И еще отец был горазд на песни, которых знал несметье и через это считался
первым запевалой деревни. Хотя он скорее был неверующим (как и мой дед,
который в оправдание своему прохладному отношению к церковным обрядам
говаривал: "Бог живет в каждом из нас, и судят о нем по его земным деяниям"; и
вместо того, чтобы стоять в заутрене перед образами при зажженных свечах, шел
с топором на плече к вдове или солдатке - поправлять крыльцо). Но он охотно
пел и на клиросе, пока не была разорена наша Манкошевская церковь - краса
дивная: она и по сей день стоит на том же месте. Только уже никого не радуя, а
как бы в укор безумному прошлому времени - без креста и колокольни. Печально
смотрится с зеленого угора в живое "зеркало" пока еще незамутненной, бегучей
Мсты, как бы вымаливая у опрокинутых в реку синих небес - прощения умершим и
вразумления живым...
И вот в пору благоденствия Манкошевской "красы дивной" ее приходской
батюшка, святой отец Василий, не раз говаривал своему уже возмужавшему
благонравному мирянину по прозванию Мастак:
- Сын мой, тебе не плотником быть, а впору б служить главным певчим
диаконом при градском соборе Святой Софии. Право, не голос у тебя, человече, а
сущая - иерихонская труба!
Оттого, что мужики по праздникам пели на клиросе, и слыла наша деревня во
всем мстинском побережье - дюже песенной. Бывало, на вечерней воскресной заре
запоют частовские у себя на Певчем кряжу, - и их голоса в слаженном спеве было
слыхать по течению чуткой реки - за двенадцать верст, в Полосах на мельнице.
Но чаще они пели зимними вечерами. На мужских посиделках у нас в отцовской
столярне (в прирубе между хлевом и домом), которая служила в деревне как бы
местным Наркоматом Иностранных Дел, где каждый - пахарь, лесоруб, столяр,
кузнец, шерстобит - смог бы сойти за наркома. Особо для такой должности
годился пастух-овчар Иван Наумыч с его апостольской длинной бородой с проседью
и благопристойным обличием святого Ионы Оттинского, именем которого был назван
монастырь на краю Красноборской пустыни.
Частовской овчар прожил долгую многотрудную жизнь - целое столетие, трудясь
в одной и той же ипостаси: с измальства и до последних своих дней: пас овец.
Они его чуть было и не погубили, когда он с бесстрашием, в одиночку, будто на
медведя с рогатиной, выступил в защиту исконной романовской грубошерстной
овцы-шубницы, когда лихие преобразователи вселенной насаждали по худосочным
колхозам северного края завезенных из Средней Азии курдючных баранов, которые
никак не хотели приживаться во влажном климате Предильменья - туберкулезно
кашляли и дохли. А на местных прытких барашков в ягнячью их пору было наложено
строжайшее табу. Их поголовно легчили под надзором районной ветслужбы.
Так во мстинском побережье была "вырублена под корень" романовская овца,
которая из веку в век служила в лесном крае становой жилой всего уклада жизни.
И от этой скорой порухи, не заставив долго себя ждать, в деревню, как-то уж
очень зримо, заявилась незваной гостьей сирая обездоленность. Вместо привычных
тулупов и полушубков сельчане стали обряжаться - в арестантские "куфайки",
вместо валенков в зиму - обулись в охламонистые резиновые чеботы, наживая
ревматизм. И до стыдобы было глядеть, как мужики - в мороз и вьюгу - голоручью
ехали в лес за дровами или на дальние Ильменские пожни за сеном. А главное,
больше не томились в обжаристых горшках, в загнетках печей запашистые "шти" с
бараниной, которые на второй день становились еще ядренее. Так бездумным
уничтожением романовской овцы селяне сразу лишились многих жизненных благ.
А супротивника чужеродной скотины, замахнувшегося вилами на огэпэушника,
сопровождавшего веткомиссию по легчению барашков местной породы, со словами во
святом гневе: "Убью, гепею-перепею!" - чуть было не сослали. Да не нашлось для
него такой чужбины, где бы "Макар коров не пас". А при нем потомственному же
пастуху такая высылка не грозила б неволей.
К тому же и деревня встала горой за своего непревзойденного мастера
берестяных дел. Лучше и краше его лаптей, ступней, заплечных кошелей, лукошек
- никто не плел в округе. Слыл он в деревне и как самый культурный муж! - без
претензий на какую-либо образованность: вместо личной росписи ставил крестик.
И поди ж ты, никто, даже поп местного прихода, так не жалел свою жену, как их
овчар. Не обращая внимания на насмехания сельчан, носил зорями на коромысле
воду из колодца своей "барыне" Ефросинье. На такую - по разумению частовских
мужиков - "постыдность" и поныне еще никто не снисходил в Частове.
Зато, когда он тихо отошел в мир иной, сразу все спохватились, что теперь
им будет недоставать благородного овчаря. Поэтому и похоронили его, как
"заслуженного" аборигена, наравне со старейшей учительницей Ниной Ивановной
Никитиной, со всеми почестями: с музыкой, востребованной из города. Этим ему
была оказана от благодарного частовского "обчества" как бы последняя ему
пастушья гостевая "череда" с признательными словами: "Пусть земля будет тебе
пухом, незабвенный наш Иван Наумыч. Аминь."
Вот такой-то всеми уважаемый человек (по призванию - овчар, прошедший в
жизни - огонь, воду и медные трубы) и коноводил до войны на мужских частовских
посиделках в столярне у Гаврилы Мастака за наркома местного НИДа. И по сей
день старожилы деревни помнят, с какой дипломатичной выходкой встревал он в
споры-разговоры, не исключая и мирового значения: "Покойничек, Петра Захарыч
(или: Кузьма Андреич), не даст соврать..." И пошел-поехал рассказывать были-
небыли из своей служилой молодости. И про сопки Маньчжурские, где "в одна тыща
девятьсот четвертого года ходил в штыковую на японский чудо-пулемет..." И про
"ерманский" плен - пятнадцатого года первой мировой войны, отбывая его у
"австрияков". Где за неоднократные побеги, чтобы пуститься "пехом" к снившимся
берегам своей бегучей Реки, беспортошного беглеца исправно и добросовестно, с
ритуальным обливанием холодной водой, порол в поте лица ременными вожжами -
больносердный к своим сытым лошадям - щекастый хозяин - "австрияк".
И за вечер-то, бывало, частовские мужики в горячих спорах - так и этак
перекроят мир, деля его на страны, которые, как им того хотелось бы, были "за
нас": это - Красный Китай, где уже какой год шла гражданская война с
Гоминьданом; Абиссиния - незнамо где находится; и (как бы мы сейчас ни
говорили, а тогда была для нас, особенно мальчишек) святая и героическая
Испания, в небе которой на стороне республиканцев сражался и частовской -
"Чкалов": доброволец, военный летчик-истребитель Николай Жуков. И на страны,
которые были "против нас": это - одноосная телега на трех колесах "Берлин-Рим-
Токио".
Обычно такие споры-разговоры заканчивались трогательной песней о каких-то
неведомых бурах, попавших в большую беду: "Трансвааль, Трансвааль, страна
моя!" Эту песню-сказ однажды привез мой дед по отцу Иван Иваныч Иванов (первый
грамотей и книгочей в округе) из - "Большой деревни" - Питера, куда ездил с
частовской плотницкой артелью на летние заработки. И всякий раз пели ее со
священным огнем в глазах, будто страна "Бурия", как называли тогда ЮАР,
находилась где-то за Красноборскими синими лесами и нуждалась в срочной
выручке частовских "санапа-лов "с дрекольем в руках.
Мне, тогдашнему дошколяру, всегда казалось, что эту песню я знал еще до
своего рождения, а, может, и родился прямо из нее...
Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне.
Под деревцом развесистым
Задумчив бур сидел.
- О чем горюешь, старина,
Чего задумчив ты?
- Горюю я по родине,
И жаль мне край родной.
Сынов всех десять у меня:
Троих уж нет в живых,
А за свободу борются
Семь юных остальных.
А старший сын, старик седой,
Убит уж на войне;
Он без молитвы, без креста
Зарыт в чужой земле.
Мой младший сын - тринадцать лет,
Просился на войну.
Решил я твердо: нет и нет,
Малютку не возьму.
Но он, нахмурясь, отвечал:
"Отец, пойду и я!
Пускай я слаб, пускай я мал -
Верна рука моя...
Отец, не будешь ты краснеть
За мальчика в бою -
С тобой сумею умереть
За родину свою!.."
Я выслушал его мольбу,
Обнял, поцеловал.
Малютка в тот же день со мной
Пошел на вражий стан.
Однажды при сражении
Отбит был наш обоз,
Малютка на позицию
Ползком патрон принес.
......................
На тех мужских посиделках мы, мальчишки, тоже были завсегдатаями. Мы росли
на них. Жались к отцовским коленям и клятвенно умоляли глазами: случись беда
со страной - война, и мы сделали бы то же самое, как и далекий "малютка" из
песни...
(Примечание: Во время англо-бурской войны (1890-1902 гг.) симпатии русского
народа были на стороне буров - народа, пострадавшего от нападения английских
колониалистов, что и обусловило появление этой песни.)
И все-таки Испания мне была ближе. Хотя бы потому, что наш частовской
"Чкалов", Николай Жуков, с моим отцом - были дружки-приятели по ЦПШа, как они
в шутку называли свою церковно-приходскую школу. Да еще и - герой! По
возвращении из Испании он - Жуковской закваски: толстогуб, смугл, да еще и до
черноты пропеченный на ненашенском солнце - приехал на побывку к себе в
деревню с тремя кубарями в петлицах и орденом "Красного Знамени" на груди. И
как тут было не втрескаться с первого взгляда нашей молоденькой городской
училке Зое Андреевне.
А уже через неделю в деревне - нежданно-негаданно - сыграли веселую
разливанную свадьбу, на которой частовской гость-герой подарил своему
закадычному дружку детства, и как запевале деревни, новую песню, которая,
казалось, и сложена была для могучего голоса моего отца. И когда мой отец
вывел первые его слова, по спинам разгоряченной застолицы забегали цепкие
холодные мураши, а в рамах окон нового клуба тоненько зазвенели стекла:
- Гренада, Гренада, Гренада моя!
И на подхват запевале частовские дружно загалдели:
- Горько, горько!
- Подсластить надоть!
Да, отец умел и любил не только от души работать, но и широко гульнуть. И
особенно на моих именинах, на которые приглашалась вся деревня.
Так в день моего рождения - 22 июня в сорок первом году - и застал вскопе
за столом, под яблонями-полудикарками, частовских мужиков срочный
военкомовский вестовой, прискакавший пополудни на взмыленной лошади, зычно
выкрикнув из седла:
- Мужики, шабаш веселью! Война уже с утра идет...
И Коленька Лещиков по прозванию - за свой малый рост - Наперсток (через это
он браковался для кадровой службы), видно, с радости, что и его черед пришел
послужить Отечеству, разудало пропел:
- Эх, пить будем, и гулять будем,
Смерть придет - помирать будем!
А седовласый вестовой с двумя кубарями в петлицах, уже спешась с лошади и
развернув давно заготовленные списки, громко и внятно выкрикивал:
- Абраменков Владимир Александрович!
- Ананьев Василий Иванович!
- Андреев Тимофей Афанасьевич!
- Васильев Иван Васильевич!
- Захаров Дмитрий Петрович!
И по всему-то алфавиту находились фамилии частовских мужиков и парней. Да
еще и не по одной, все больше по две:
- Голубев Александр Ионович!
- Голубев Филипп Ионович!
- Ильин Иван Дмитриевич!
- Ильин Александр Дмитриевич!
Дмитриевых Ильичей так трое и значилось: Василий, Павел, Николай! Столько
же сыскалось и Максимовых братанов Максимовичей: Осип, Иван, Александр!
А чернобровых Жучат (Жуковых) Николаевичей и того более, сразу уходило
пятеро: Тимофей, Никандр, Николай, Иван, Михаил! И это при живых-то еще
родителях... Каково же матери-то было пережить такую, свалившуюся на ее сивую
голову, беду-разлуку? Сколько ж надо было иметь на всех слез?
Боже, сколько ж мужиков-то было в довоенной Частове? И это не считая тех,
кто уже служил кадровую. И тех зеленых подростышей, которые теперь будут
уходить из деревни - слой за слоем - целых четыре года. И этот неотвратимый
отток человеческих жизней начнется уже очень скоро - через каких-то несколько
недель. Как только огненный вал войны пригрохочет к стенам Вечного Града. И
вслед за своими отцами и старшими братанами уйдут из деревни добровольцами и
семнадцатилетние.
До прихода сибиряков, которые с первыми морозами - в новых "с иголочки"
белых нагольных полушубках - надолго засядут в надежную оборону у Синего
Моста, частовские мальчишки, все до одного, погибнут в высоких травах
предыльменских пожен, захлопнув за собой тяжелую дверь в Вечность... Но
похоронки же на них в их деревню, до которой рукой подать, пойдут каким-то
кружным путем. Матери их получат только после войны. Видно, чья-то разумная
голова рассудила: пусть мертвые мальчики немного подрастут хотя б во Времени.
Все не так будет больно их матерям.
Но это будет потом... Сейчас же частовские мужики и парни - прямо из-за
именинного стола - только еще собирались на Великую бойню. И для многих - о
чем они еще боялись загадывать - поименно оглашенный, державный реестр живых
душ был уже поминальником...
Ленинградский военный округ в те годы значился прифронтовым, и сборы на
войну были недолгими. Уже на другой день вся деревня, от мала до велика -
матери с младенцами на руках, старичье с клюками в руках, - переправившись на
пароме, высыпали на заречный Новинский луг, где зелеными волнами ходили
высокие тучные травы, как никогда вымахавшие в этом году. Но они никого не
радовали. Да и не на сенокосную толоку срядились сегодня частовские косари с
заплечными сидорами на рушниках. На фронт уходили частовские косари. Среди них
мельтешил и вчерашний седовласый нарочный-военкомовец, беспрестанно крича
охрипшим голосом:
- Товарищи, выходи - стройся! - но его голоса из-за бабьего причитания
никто не слышал.
Мало того, гармонист Василий Ильич (по-деревенски - за его благонравие -
Васенька Ильин), словно себе наперед - на вспомин души, а может, и в укор на
недавнее братание с нацистской Германией (потешный договор о "ненападении"),
вскинул перед собой, как свадебную дугу, свою нарядную тальянку с медными
планками и такое залихватское выдал на прощание, что будь поблизости
Манкошевский погост - и мертвые поднялись бы из могил. Ну, как тут было
устоять на месте сдвуродным высоченным брательникам, холостякам-весельчакам:
Николаю Васину, деревенскому искуснику на всех струнных инструментах и
голосистому школьному учителю Алексею Голубеву. Схватившись за руки, они -
всему назло - пошли по лугу в размашистой паре выделывать своими великаньими
ногами скоморошьи кренделя и, будто в роги, трубно издивляясь:
- Русский, немец и поляк
- танцевали краковяк:
Поляк - поскользнулся,
Немец - улыбнулся, а
Русский - матюгнулся!
И опять послышался настойчивый голос охрипшего военкомовца:
- Товарищи!.. Ворошиловцы, выходи - стройся!
И опять никакого внимания на чрезвычайные государственные хлопоты. Все были
заняты - собою, родней своей, однодеревенцами.
"Оглохли, что ли, наши мужики и парни? - недоумевали мы, мальчишки, в душе
радуясь войне. - Теперь-то... раз частовские идут на фронт, будет фашистам
пузатым-рогатым (какими их рисовали тогда на плакатах) - и за Абиссинию, и за
Испанию - будет! Только жаль, что нас с собой не берут, а то еще и не так было
б!.."
И как бы в ответ на наше недовольство мы услышали могучий голос моего отца:
- Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне...
На голос запевалы деревни, отозвавшегося на увещевание военкомовца,
частовские мужики и парни, вырываясь из объятий матерей, жен, сестер, невест,
стали сбегаться кучно, как пчелы на жужжание своей матки начинают сбиваться в
отлетающий рой.
И вот высыпавшая на заречный луг деревня строго разделилась на два роя - на
неистово поющих мужиков и в беспамятстве плачущих баб. И когда мужичий рой,
видно, почувствовал, что набрал силу в песне, лохмато - медведем - шевельнулся
и покатился по лугу, приминая высокую траву, которая останется в это лето
нескошенной.
Так песня о каких-то далеких бурах и увела из Частовы - деревни русской,
деревянно-колхозной - подчистую всех косарей на войну.
За поющими мужиками вдогон двинулся обоз, в подводчиках которого были мы,
мальчишки, чтобы отвезти наших отцов, дядьев, крестных, старших братанов на
станцию Малая Вишера, а затем обратно пригнать порожние подводы.
За Новинским глубоким урочищем мужики расселись по телегам, и мы поехали на
войну. Мои попутчики допили - на посошок - прихваченные отцом с моих именин
пару поллитровок, но хмель никого не брал. И петь, видно, никому не хотелось,
молчать тоже - все говорили об оставленных незавершенными домашних делах:
- Как-то сей год управятся тут наши благоверные без нас?
- Надо ж было такому случиться: бабы наши только сшили себе ситцевые
сарафаны для страды, а мужики отбили косы, и нате - война!..
- Поди, знай, сумеем ли мы теперь управиться с военными хлопотами, хотя б к
уборке огородов, - сетовали новинские косари, все еще теша себя надеждой о
своем скором возвращении по домам с Победой "на чужой земле", как пелось еще
вчера в песне "Если завтра война..."
На станцию мы приехали уже с восходом солнца. Телегу поставили на заулок
дома одной из каких-то "поперечных" улиц. Моих седоков сразу же увел куда-то
военкомовец, который ехал с нами. А на его верховой лошади мне было позволено
восседать в настоящем кавалерийском седле. И за дорогу в каких только я -
мысленно - не побывал сражениях: всех врагов победил! Можно б нашим папкам и
оглобли заворачивать к дому, но они ушли на сборный пункт. Отец обещал придти
попрощаться. И велел потом ждать нашего председателя Егора Мельникова, с
которым и поеду домой.
От нечего делать я распряг лошадь и поставил кормиться ее к вчерашнеукосной
траве в телеге. А обследовав двор, по приставной пожарной лестнице
вскарабкался на конек крыши: чтобы определиться, где я нахожусь, но старуха,
копошившаяся на огороде, сердито пристыдила:
- Чай, не маленький, штоб по крышам-то лазить. Поди, за мужика у матки в
доме остался?
Посрамленный, я завалился в телегу, вперился остановившимися гляделками в
синее небо и стал ждать отца. А он все не приходил... Где-то неподалеку играла
духовая музыка, перекрывая станционные гудки маневровых "кукушек" и громовой
лязг буферов вагонов, спускаемых с "горки" (про "кукушек, буфера и горку" я
узнаю намного позже, когда в зрелые годы стану работать на "железке"
рефрижераторным механиком). Хотя и думал тогда о себе, что я - "вечный!", но и
не загадывал, что буду так долго жить - целых еще полстолетия. А для начала
надо было перемочь страшную войну, которая только разрасталась - у далеких и
неприступных, как писалось тогда в газетах, границ западных. "Далекие и
неприступные рубежи наши" вскоре окажутся - блефом.
 Потом-то стратеги наши будут валить на "внезапность". Вранье все это, как
покажет время. Даже мы, тогдашние мальчишки, знали про то, что к нам грядет
война. Играя в Чапая, мы ею уже жили. Да что там, про себя скажу: я даже
читать выучился до школы по газетным сводкам - из Китая, Абиссинии и Испании.
...Я - отрок двенадцати лет от роду - живой свидетель того грозного
времени, лежал в телеге, вслушиваясь в голоса частовских певцов, особливо от
других "хоров" дравших свои глотки в полюбившейся им песне:
- Да, час настал, - тяжелый час
Для родины моей.
Молитесь, женщины, за нас,
За ваших сыновей!
Молитесь, женщины, за нас,
За ваших сыновей!
И опять пели сначала:
- Трансвааль, Трансвааль...
Не знал я тогда, не догадывался - не к добру выйдет для наших
однодеревенцев их неуемная ретивость. Немногим из них суждено будет вернуться
домой - ни к Покрову, как им мнилось по дороге в райцентр, ни через четыре
года Великой войны, которая лично мне еще навсегда испортила и день
рождения...
А рядом мирно хрумкала лошадь, напоминая шуршание грибного дождя по
драночной крыше. Может, поэтому мне и блазнилось, вернее, уже снилось, как я
ходил с отцом в его любимый - неблизкий от деревни - бор Барская Нива.
Я любил с отцом наедине бродить по нашим заповедным местам. Он никогда не
считал меня маленьким, всегда затевал какие-то игры, которые ему и самому
"ндравились". Бывало, идем ранним утром по берегу реки, занавешенному живым
пологом плывущего по течению молочного тумана, он вдруг спрашивает: "Сынка, а
ну, быстро ответь - какая сщас рыбина брязнулась на перекате?" Заходим в
бисерно-росный калинник - опять вопрос: "А ну, скажи, какая тут птаха тенькает
краше?" Или, возвращаясь с дальних Березуг, куда всегда ходили на излете осени
ранними утрами за белыми груздями, он невольно сам засмотрится на ошпаренные
первыми утренниками осинники и вслух подумает: "Экая красотища полыхает!"
Сейчас же мне снился наш заветный кондовый сосняк Барская Нива, в подножье
которого стлался иссиня-белесый, как первоапрельский ноздреватый наст,
хрусткий мох, а на нем - то там, то сям - уже чудились коричневые шляпки...
Отец стянул с головы кепку и, вдыхая, будто церковный ладан, смолистый дух
бора, сказал:
- Ты только, сынка, погляди: не лес - храм пресветлый! - и он широко
показал своей большущей ручищей на веероусые надрезы подсочки на могучих
лесинах, походивших на врезанные в их живое тело старые доски икон, с которых,
казалось, вот-вот проглянет строгий лик святого угодника. А конусообразные
глиняные горшочки для сбора живицы и впрямь смахивали на горящие лампады:
стекавшие в них "слезы" смолы вспыхивали огоньками, когда их касались
колеблющиеся лучи солнца, пробиваясь сквозь ветки макушек. И, видно от
нахлынувших возвышенных чувств, отец вдруг запел:
- Боже, царя храни...
И кондовый, самоварный, сосняк в лад ему отозвался каким-то струнным эхом:
"...ни-и!" - которое как бы подхватило меня, будто оброненное куропаткой перо,
и легко понесло в кудрявые выси макушек. И вот, уже находясь в зеленом
небытии, я то ли со страху, то ли от охватившего меня восторга, вдруг
заплакал, услышав в яви голос отца:
- Что с тобой, сынка? - Пребывая все еще во сне, мне помнилось, что я лежу
на дне глубокого колодца, а на меня... из-под белого плывущего облака по-
сродственному вглядывается архангел Гавриил, продолжая будить меня голосом
моего отца. - Да очнись же ты, сынка, это я - твой папка...
Мой отец, верно, очень смахивал на своего небесного тезку на треснутой
темной доске в переднем углу. Строгое костистое лошадиное лицо, и нос, не
такой, как у наших матюжных мужиков - "картошкой" на конопатых обличьях, был
благородный: тонкий с горбинкой, будто у Божьего воина с копьем...
Помню, он даже и коня мне, маленькому, смастерил из свилеватого комля осины
в серых "живых" яблоках, похожим на себя. Через это его, Мастака, я иногда еще
в шутку называл: "Конь ты мой Горбоносый!" Только в плечах был не в пример
иконе - зело широк: косая сажень! А кулаки так и вовсе - гири-двухпудовки.
Поэтому он и не дрался никогда в престолы на стороне частовских "санапалов",
отшучиваясь, показывая свои кулачищи: "Не убивать же мне чужаков - пускай
живут и поют песни!"
- Папка, ты так долго не приходил, что я во снях тебя увидел, - наконец
очнулся я от наваждения. - На Барскую Ниву ходили ломать белые. - (Частовские,
истовые грибники никогда не скажут "резать грибы", хотя и ходят в лес с
ножами. А только: "ломать!" Право, "белые" растут у нас, как говорят в
деревне, до того "запестоватыми" да упругими, которые, воистину, надо "ломать"
с треском.)
- Да все не отпускали, сынка, - повинился отец. - Вот и пришел-то на какую-
то минуту. Вагоны уже поданы - сщас посадка начнется, и паровоз стоит под
парами.
И, отгоняя все печали, помечтал несбыточно:
- А дивья б, сынка, нам вместях сходить на прощание на Барскую за белыми-
то. Поди, знай, доведется ли еще когда мять наши боровые сивые мхи.
- Конь Горбоносый, ты чего? - приструнил я его по-взрослому, на что он
намекает. - Лучше на прощание давай, как когда-то, поборемся понарошке.
- Теперь, сынка, папке твоему будет с кем бороться и не "понарошке", -
тяжко вздохнул отец и ошарашил меня незнакомыми словами, от которых повеяло
холодом. - Раз объявлена тотальная мобилизация, тут шутки прочь!.. А теперь
давай слезь с телеги и запряги лошадь, а я посмотрю, как ты умеешь.
- Сам знаешь, что умею, - буркнул я, боясь разреветься.
- Хорошо, сынка, - пощадил мое самолюбие отец. - Тогда хоть на прощание
давай это дело сладим вместях.
Я завел лошадь в оглобли и стал закладывать тяжелую рабочую дугу, которая
оказалась мне не по силам - вывернулась из рук и другим концом больно ударила
прямо по лодыжке ноги. Я запрыгал-заплакал, но уже от другой боли. Я вдруг
остро осознал, что сейчас мой Конь Горбоносый уйдет от меня навсегда. И отец,
видно, подумал об этом же. Сломавшись, как расхлябавшийся складной плотницкий
метр, он с каким-то внутренним стоном рухнул на колени и, скрывая
навернувшиеся слезы на глазах, крепко прижал меня к своей бугристой груди...
Так я во второй раз в своей жизни увидел его в слезах.
...Впервые такое с ним приключилось в лихую годину - в зиму с тридцать
седьмого на тридцать восьмой. В бытность его "временного"
председательствования. В постоянные же "преды" колхоза он никак не соглашался.
Да и не подходил ни с какой стороны, ибо считался - белой вороной, то есть
помимо Мастера деревянных дел слыл в деревне еще и притчей во языцех, как
"беспартийный большевик": много работал, жил по правде и с однодеревенцами был
в ладу, по-людски. А ежели дело доходило до чарки, ему ставили - его
знаменитую кружку "РККА" (Рабоче-Крестьянская Красная Армия), чтобы уровнять
его с собой. Иначе, если пригубливаться наравне, он - сидит трезвехонек, поет
песни, а они, уже осоловелые, вот-вот уберутся под стол, чтобы утром,
бахвалясь, рассказывать о том, чего не помнят: "Вот вчерась гульнули, так
гульнули!"
А то, под настроение, такой-то семипудовый мужичище-сбитень пустится в пляс
- вприсядку. Особенно под Никанорычеву тальянку - "Пиесу-Барыню", аж половые и
потолочные матицы ухали ему в лад!
Сколько я помню то время, отца постоянно "сватали" в партию, а он все
отнекивался:
- Пока, дорогой товарищ, я до этого - не дорос, не дозрел. Да и то правда -
некогда мне рассиживаться на собраниях. Кто ж за меня будет махать топором,
ежель я подамся в краснобаи?
На что однажды один ретивый райкомовский уполномоченный (которых после
войны уже нарекут "толкачами") на его очередной отказ вступить в ряды ВКП(б)
раздраженно высказал ему:
- Однако ж, ты, Мастак, как я погляжу - размазня на постном масле... Не
понимаешь, в какое время живешь. Гляди, не пожалей...
- Нет, пока до этого я еще - не дорос, не дозрел, - гнул свое отец,
замороченный темными намеками прилипчивого наставителя.
Но, как Мастак ни упрямился, ни упирался, а задвинули-таки его в
председатели с оговоркой по его настоянию - с записью в протоколе общего
собрания: "временный".
Так, не по своей воле, его отрешили от любимого дела - с утра до вечера, в
жару и стужу - махать топором да перекатывать бревна, как карандаши. Двумя
годами ранее за строительство - "образцовых" - коровника и конюшни он, как
бригадир плотницкой бригады, на областном слете ударников был премирован
патефоном Первого гатчинского завода с тремя пластинками в придачу: "Дударь,
мой дударь", в исполнении Ольги Ковалевой; шотландской застольной "Выпьем, ей-
Богу, еще!" и боевым маршем в честь дальневосточного командарма Блюхера,
награжденного орденом "Красного Знамени" N1, "Бейте с неба, самолеты, - в бой
идут большевики!" И тот же марш сразу стал для частовских мальчишек любимой
песней - уж больно она задорно горлопанилась и шлепко топалось под нее босыми
следами...
После того, как первого частовского председателя Егора Мельникова какая-то
страшная болезнь - парализовало всю правую сторону тела - уложила надолго в
областную клинику, дела в колхозе имени Клима-Лошадника круто покатились под
гору. За это время сменилось несколько председателей - и все не в коня корм.
Да и кормить скотину в ту зиму, когда отец принял разоренное хозяйство, в его
"образцовых" коровнике и конюшне было нечем. И поневоле ворошиловцам во главе
с новым председателем-плотником пришлось стать застрельщиками по нововведению.
Вместо сена стали задавать в ясли гольем "витамины": еловый лапник и березовые
голики.
Надо было готовиться к весеннему севу - пахать-боронить, а изморенных
донельзя, облишаенных лошадей нещадно косил страшный мор - сап с мытом. На
деревню был наложен строжайший карантин, по которому - ни выехать, ни въехать
не моги в Частову...
Из песни слов не выкинешь: не лучшим было и прошедшее лето. От зачумления
людей революционным "зудом" деревня недосчиталась трех непоследних мужиков. И
первым пал длинноногий, как журавель, Яков Прокофьев, по-деревенскому
прозванию: Бело-Красный. Бывший кавалерист Белой и Красной армий,
заупрямившийся в свое время - со всеми вместе - "дружно" вступить в колхоз, а
стало быть и встать в первые ряды ворошиловцев. Может, и одумался бы упрямец -
вступил по доброй воле в колхозные чертоги, куда ж деваться человеку, как
загнанной в засеку лошади, если, куда ни глянь, будто в песне: "Все кругом -
колхозное, все кругом - твое!" И тут же про себя талдычил: "Только - не свое,
и не мое..."
Но он сам подторопил свою планиду-злодейку. Как-то перед Спасом, после
полуденного воскресного чая с черничными сканцами, выкатился из-за стола к
себе в подоконье - освежиться на воздухе, и видит такую картину. По всему краю
деревни издивляются сельчане, вперясь гляделками в чистое небо. А старухи, так
те крестились, словно перед кончиной света, видя, как на деревню, со стороны
леса Борти, будто бы с поля выплывала огромная светло-мышастая корова-барка с
отвислым грузным выменем, которым, казалось, сердешная, вот-вот заденет за
шишаки ельника. На наеденном круглом боку отчетливо виднелось клеймо из
больших синих букв, которое сипло считывал - выказывая, каков он грамотей! -
старый бобыль Ероха, не знамо откуда прибившийся к деревне:
- Сы Сы Сы Ры... (вот и догадайся, какой светло-мышастый зверь крался к
деревне из "Гнилого угла"?)
И тут Бело-Красный, бывалый рубака всех последних войн, зычным голосом внес
ясность:
- Не дрейфьте, православные! Это дирижабль летит... - И, зло сплюнув,
съязвил, скорее по привычке, чем для чужого длинного уха. - Ишь, раскатывается
партейная неработь по небу букашками.
И верно, вместо вымени в подбрюшье "коровы-барки" висела корзина, из
которой выглядывали, как грибы, какие-то человечки.
- Ох уж эти большевички, - продолжал негодовать бывший бывалый рубака. -
Раскатываются по небу себе в удовольствие, а то, что на земле лошади дохнут от
заразы, им - хоть бы хны!
Эти слова были кем-то услышаны и доложены - куда следует в свободном
пересказе: Бело-Красная долговязая калягань прилюдно обзывал, мол, отважных
большевиков - "букашками".
Так строптивый Яков Прокофьев (стоявший грудью в первую мировую войну за -
царя-батюшку, в революцию занял сторону - большевиков, в гражданскую махал
шашкой направо и налево сперва за - белых, затем за - красных; потом снова за
- белых, и снова за - красных) из-за вздорного характера и не доносил
форсистые штаны с лампасами. Бедолага по простоте своей укатил, будто в
ночное, в недобрый час, на "бешеном воронке" в - Никуда. И сразу с концами,
оставив на краю деревни, в крашеном доме, чернявую жену Веру из плодовитого
древа Жуковых (сестра пятерых братанов и мать пятерых детей, мал мала меньше).
Вдогон Бело-Красному оракулу прокатились на том же "бешеном воронке" вскоре
и Никитины: медвежатый отец Матвей-Молчун и его женатый рослый красавец сын
Николай, который от Бога был еще и заядлым лошадником. Он и в колхоз-то
вступил только из-за своего холеного жеребца Циклона, обобществленного
закоперщиками новой "жисти" на разжив-почин свежеиспеченного колхоза...
Боялся, что тот попадет в чужие нерадивые руки. И златогривый любимец погубил
своего бывшего хозяина в его новой ипостаси. В необузданной страсти при его
могуте он оказался не по силам лягливой кобыленке с расхристанного подворья
бывшего частовского предкомбеда. Чагривая темно-пепельной масти, после
покрытия жеребцом Циклоном, сделала выкидыш. И вся вина в этом пала на
молодого завконефермы - за его "родственные связи" с производителем. Ясное
дело, что тут таился какой-то враждебный кулацкий подвох.
И укатали частовского красавца-лошадника его благие помыслы (хотел через
своего жеребца в паре с чагривой вывести особую породу лошадей - колхозную!)
по вымощенной дорожке в ад. Переворачиватели мира не посчитались, что жена
Николая Матвеевича, Нина Ивановна, как порука мужу, была деревенской
учительницей, вразумляла начальной грамоте их же неслухов. Нет, не
посчитались!
Это случилось летом - на Казанскую. А после Покрова, темной ночью, умыкали
из деревни и его медвежатого отца. Матвей-Молчун всегда слыл в деревне
справным мужиком, хотя бы потому, что ел свой хлеб до нови.
В доколхозное время он с зари до зари "зверюгой" корчевал на вырубках пни -
готовил пашню. Через это летом, экономя время, даже не ходил в баню -
обходился рекой. Но вот на уговоры же вступить в колхоз, чтоб уже ломить
сообща - стократной силой, на него находило какое-то затмение. Казалось,
мужика вот-вот хватит столбняк - мычал что-то невразумительное: "Знаш-понимаш,
понимаш-знаш, обченаш..." Вот и весь его был ответ на "обчественное" ведение.
Собрание хохотало и с миром отпускало домой. Ступай, мол, тугодум, и покумекай
еще раз у родной печки, может, она что-то и присоветует тебе, как дальше быть?
Так и жил мужик в тревоге.
Но вот на державном олимпе новые боги мудро и решительно начертали: "Кто не
с нами, тот - против нас!" И когда раскаты их громов докатились до берегов
бегучей реки, не стало на частовских нелегких белых подзолах трудяги-Молчуна.
Да, пропал земляной червь, Матвей Никитин, ни за понюх табаку...
Вот в какое, видно, спосланное самим Богом, проклятое время взвалил на свои
могутные плечи бремя забот мой беспартийный отец, пока выдвиженец райкома,
срочно принятый в ряды ВКП(б), проходил председательскую выучку в областной
Совпартшколе.
Но как бы там ни было, жизнь в деревне на этом не кончилась. Плохо, хорошо
ли, весной отсеялись в сроки. Памятуя о прошедшей зимней бескормице, и к
сенокосу подошли серьезно. Тут, видно, сказалась заслуга нового председателя-
плотника, который, готовясь к луговой страде, сделал перенасадку своей косы на
литовку самого большого размера, а само косовье пустил длиннее обычного. А
когда подоспела пора отбивать на заулках косы, он не стал созывать общее
собрание, как было принято, а пошел по подворьям, где в разговорах с хозяевами
напоминал им крестьянскую заповедь, уже напрочь забытую в колхозное время:
"Коси, коса, пока роса: роса долой - косарь домой". И от себя добавлял: "Да и
косить по холодку под задорные наигрыши дергачей - азартнее выйдет!"
А на восходе солнца он встал впереди косарей и пошел, враскорячь, махать
литовкой двойным прокосом, благо силушкой не был обижен Богом. Ну, а для
настроения во время перекуров у него, запевалы деревни, про запас имелись
песни. А без них - какой же сенокос на Руси?
В то лето - на удивление - не подкачал и лен. Когда его поля разлились
голубыми озерами цветения, председателю-мастеру втемяшилась в голову затея -
замахнуться на деревянную машину. Да не на какую-то там самоделку-безделицу,
что-то вроде "вечного двигателя". А на самый что ни на есть настоящий агрегат-
льнотрепалку, приводимую от конного привода, чертеж которой был напечатан во
всесоюзной газете "Соц. Земледелие".
Помимо всего прочего, что мог сделать столяр-плотник, нужны были крепежные
болты и простейшая ременная трансмиссия для передачи вращения от конного
привода к двум брусам-валам с посаженными на них по четыре маховых деревянных
колеса, к которым крепились бы нагелями по восемь тонких изящных трепал... Тут
хоть имей пять пядей во лбу, а без кузнеца не обойтись...
С такой вот непростой заботушкой в разгар лета, ближе к вечеру, и пожаловал
с поллитровкой в кармане частовской председатель-косарь в Заречье. На бывший
столыпинский отруб Новинка в двух верстах от деревни - вниз по течению к
известному, как и он, всей округе мастеру, но уже железных дел, Ивану-Кузнецу.
И там у них, за хлебосольным столом, состоялась тайная "вечеря". На то был
свой резон. В том крутом году им, уважаемым селянам, настрого было заказано
что-либо делать помимо колхозной работы: одному - строгать, другому - ковать,
чтобы - Боже, упаси! - не возродили частного промысла. Закоперщики новой
"жисти", во хмелю вседозволенности, уже зарились и на своих селянских
умельцев, замысливая, если не раскулачить, то - "обобчествить их струмент для
обчего пользования". На деле же вышло гораздо проще: расхватали бы все на-
шарап - кому что достанется. Потом иззубрили бы руками неумех и выкинули на
задворки за ненадобностью.
Открываться же мастерам до поры до времени не хотелось: а вдруг их
дерзостная затея обернется пшиком на радость местным зубоскалам? Да на том и
ударили по рукам, порешив: творить свою задумку будут - на свой страх и риск -
ранними да поздними упрягами, чтобы не вышло в ущерб колхозной работе. И что
немаловажно, а это и было для них главное, пока пронырливые лежебоки валяются
у себя в постелях под пологами, строгая на зорьке в усладу со своими
беззаботными марьюшками себе подобных "пестухов". А так как столяр-
председатель жил на юру лесного ручья, делившего деревню на два края -
Козляевский и Аристовский, то и строгать-пилить ему пришлось у себя в столярне
за занавешенными дерюжными покрывалами окнами.
И их тайно рожденное детище закрутилось-завертелось, ни раньше, ни позже, а
точно подгадало явиться на свет Божий - к октябрьским торжествам: другого
срока для завершения любого дела - уже не мыслилось. На тогдашней
"презентации" деревенской "фабрики" частовской Мастак не без бахвальства
высокопарно сказал на стихийном сельском сходе:
- Дорогие наши труженицы, принимайте в услужение себе деревянную помощницу
- на восемь персон! - Частовские, они - такие: и делом, и словом любили
козырнуть.
Например, старый одноногий гармонист Никанорыч - инвалид русско-японской
войны девятьсот четвертого года - объявлял плясовую непременно с городским
форсом: "Дык, уважаемые, пиеса "Барыня"!" Но и то правда, Частова всегда
славилась гармонистами, не менее, чем плотниками. Но свадебным гармонистом в
деревне был все-таки один - Никанорыч, которого так и величали с любовью: "Наш
Пиеса-Барыня!"
Макет той чудо-льнотрепалки стал достоянием первой Всесоюзной
сельхозвыставки в Москве. За участие в ней отец был премирован велосипедом
Первого московского велосипедного завода.
Но это будет все потом, в следующем году. А тогда, вскоре после такого
волнительного события в деревне с льнотрепалкой, отец наконец-таки сдал свои
"временные" председательские хлопоты выученику Высшей вэкэпэбэвской областной
школы. (Но, как покажет время, не в коня корм пошел. Весной его поменяли снова
на мало-мальски оклемавшегося кособокого Мельникова, который будет тянуть
нелегкий председательский воз еще целых два десятилетия).
Мне запомнилось, как отец на общем собрании в клубе - после отчета и его
перевыборов - винился перед однодеревенцами, показывая им свои тоскующие по
любимому делу ладонищи:
- Простите, люди добрые, ежели что не так получалось, как хотелось бы... Да
и то правда, не моими руками держать бумажки. Как ни осторожничал, все мятыми
получались... Да и на свет Божий, сами знаете, я явился не белоручкой - на
сенокосе в Березугах, когда мать-роженица моя заводила зарод стога, чтоб
метать сено...
И уже на другой день частовской Гаврила Мастак к большой радости его бывшей
плотницкой бригады, которая без своего одержимого бригадира как-то увяла
духом, вернулся к любимому делу, дарованному самим Господом - махать топором.
И планов у него было громадье - построить "образцовое!" овощехранилище: со
сквозным проездом и вытяжной вентиляцией. И уже к следующим октябрьским
торжествам оно в полном великолепии красовалось на бугре - за банями
Аристовского края.
На этом можно было бы поставить точку на житии частовского Мастака. Можно,
если бы был изжит до конца - проклятый тридцать восьмой, на излете которого он
был срочно вызван в райцентр.
Потом-то стратеги наши будут валить на "внезапность". Вранье все это, как
покажет время. Даже мы, тогдашние мальчишки, знали про то, что к нам грядет
война. Играя в Чапая, мы ею уже жили. Да что там, про себя скажу: я даже
читать выучился до школы по газетным сводкам - из Китая, Абиссинии и Испании.
...Я - отрок двенадцати лет от роду - живой свидетель того грозного
времени, лежал в телеге, вслушиваясь в голоса частовских певцов, особливо от
других "хоров" дравших свои глотки в полюбившейся им песне:
- Да, час настал, - тяжелый час
Для родины моей.
Молитесь, женщины, за нас,
За ваших сыновей!
Молитесь, женщины, за нас,
За ваших сыновей!
И опять пели сначала:
- Трансвааль, Трансвааль...
Не знал я тогда, не догадывался - не к добру выйдет для наших
однодеревенцев их неуемная ретивость. Немногим из них суждено будет вернуться
домой - ни к Покрову, как им мнилось по дороге в райцентр, ни через четыре
года Великой войны, которая лично мне еще навсегда испортила и день
рождения...
А рядом мирно хрумкала лошадь, напоминая шуршание грибного дождя по
драночной крыше. Может, поэтому мне и блазнилось, вернее, уже снилось, как я
ходил с отцом в его любимый - неблизкий от деревни - бор Барская Нива.
Я любил с отцом наедине бродить по нашим заповедным местам. Он никогда не
считал меня маленьким, всегда затевал какие-то игры, которые ему и самому
"ндравились". Бывало, идем ранним утром по берегу реки, занавешенному живым
пологом плывущего по течению молочного тумана, он вдруг спрашивает: "Сынка, а
ну, быстро ответь - какая сщас рыбина брязнулась на перекате?" Заходим в
бисерно-росный калинник - опять вопрос: "А ну, скажи, какая тут птаха тенькает
краше?" Или, возвращаясь с дальних Березуг, куда всегда ходили на излете осени
ранними утрами за белыми груздями, он невольно сам засмотрится на ошпаренные
первыми утренниками осинники и вслух подумает: "Экая красотища полыхает!"
Сейчас же мне снился наш заветный кондовый сосняк Барская Нива, в подножье
которого стлался иссиня-белесый, как первоапрельский ноздреватый наст,
хрусткий мох, а на нем - то там, то сям - уже чудились коричневые шляпки...
Отец стянул с головы кепку и, вдыхая, будто церковный ладан, смолистый дух
бора, сказал:
- Ты только, сынка, погляди: не лес - храм пресветлый! - и он широко
показал своей большущей ручищей на веероусые надрезы подсочки на могучих
лесинах, походивших на врезанные в их живое тело старые доски икон, с которых,
казалось, вот-вот проглянет строгий лик святого угодника. А конусообразные
глиняные горшочки для сбора живицы и впрямь смахивали на горящие лампады:
стекавшие в них "слезы" смолы вспыхивали огоньками, когда их касались
колеблющиеся лучи солнца, пробиваясь сквозь ветки макушек. И, видно от
нахлынувших возвышенных чувств, отец вдруг запел:
- Боже, царя храни...
И кондовый, самоварный, сосняк в лад ему отозвался каким-то струнным эхом:
"...ни-и!" - которое как бы подхватило меня, будто оброненное куропаткой перо,
и легко понесло в кудрявые выси макушек. И вот, уже находясь в зеленом
небытии, я то ли со страху, то ли от охватившего меня восторга, вдруг
заплакал, услышав в яви голос отца:
- Что с тобой, сынка? - Пребывая все еще во сне, мне помнилось, что я лежу
на дне глубокого колодца, а на меня... из-под белого плывущего облака по-
сродственному вглядывается архангел Гавриил, продолжая будить меня голосом
моего отца. - Да очнись же ты, сынка, это я - твой папка...
Мой отец, верно, очень смахивал на своего небесного тезку на треснутой
темной доске в переднем углу. Строгое костистое лошадиное лицо, и нос, не
такой, как у наших матюжных мужиков - "картошкой" на конопатых обличьях, был
благородный: тонкий с горбинкой, будто у Божьего воина с копьем...
Помню, он даже и коня мне, маленькому, смастерил из свилеватого комля осины
в серых "живых" яблоках, похожим на себя. Через это его, Мастака, я иногда еще
в шутку называл: "Конь ты мой Горбоносый!" Только в плечах был не в пример
иконе - зело широк: косая сажень! А кулаки так и вовсе - гири-двухпудовки.
Поэтому он и не дрался никогда в престолы на стороне частовских "санапалов",
отшучиваясь, показывая свои кулачищи: "Не убивать же мне чужаков - пускай
живут и поют песни!"
- Папка, ты так долго не приходил, что я во снях тебя увидел, - наконец
очнулся я от наваждения. - На Барскую Ниву ходили ломать белые. - (Частовские,
истовые грибники никогда не скажут "резать грибы", хотя и ходят в лес с
ножами. А только: "ломать!" Право, "белые" растут у нас, как говорят в
деревне, до того "запестоватыми" да упругими, которые, воистину, надо "ломать"
с треском.)
- Да все не отпускали, сынка, - повинился отец. - Вот и пришел-то на какую-
то минуту. Вагоны уже поданы - сщас посадка начнется, и паровоз стоит под
парами.
И, отгоняя все печали, помечтал несбыточно:
- А дивья б, сынка, нам вместях сходить на прощание на Барскую за белыми-
то. Поди, знай, доведется ли еще когда мять наши боровые сивые мхи.
- Конь Горбоносый, ты чего? - приструнил я его по-взрослому, на что он
намекает. - Лучше на прощание давай, как когда-то, поборемся понарошке.
- Теперь, сынка, папке твоему будет с кем бороться и не "понарошке", -
тяжко вздохнул отец и ошарашил меня незнакомыми словами, от которых повеяло
холодом. - Раз объявлена тотальная мобилизация, тут шутки прочь!.. А теперь
давай слезь с телеги и запряги лошадь, а я посмотрю, как ты умеешь.
- Сам знаешь, что умею, - буркнул я, боясь разреветься.
- Хорошо, сынка, - пощадил мое самолюбие отец. - Тогда хоть на прощание
давай это дело сладим вместях.
Я завел лошадь в оглобли и стал закладывать тяжелую рабочую дугу, которая
оказалась мне не по силам - вывернулась из рук и другим концом больно ударила
прямо по лодыжке ноги. Я запрыгал-заплакал, но уже от другой боли. Я вдруг
остро осознал, что сейчас мой Конь Горбоносый уйдет от меня навсегда. И отец,
видно, подумал об этом же. Сломавшись, как расхлябавшийся складной плотницкий
метр, он с каким-то внутренним стоном рухнул на колени и, скрывая
навернувшиеся слезы на глазах, крепко прижал меня к своей бугристой груди...
Так я во второй раз в своей жизни увидел его в слезах.
...Впервые такое с ним приключилось в лихую годину - в зиму с тридцать
седьмого на тридцать восьмой. В бытность его "временного"
председательствования. В постоянные же "преды" колхоза он никак не соглашался.
Да и не подходил ни с какой стороны, ибо считался - белой вороной, то есть
помимо Мастера деревянных дел слыл в деревне еще и притчей во языцех, как
"беспартийный большевик": много работал, жил по правде и с однодеревенцами был
в ладу, по-людски. А ежели дело доходило до чарки, ему ставили - его
знаменитую кружку "РККА" (Рабоче-Крестьянская Красная Армия), чтобы уровнять
его с собой. Иначе, если пригубливаться наравне, он - сидит трезвехонек, поет
песни, а они, уже осоловелые, вот-вот уберутся под стол, чтобы утром,
бахвалясь, рассказывать о том, чего не помнят: "Вот вчерась гульнули, так
гульнули!"
А то, под настроение, такой-то семипудовый мужичище-сбитень пустится в пляс
- вприсядку. Особенно под Никанорычеву тальянку - "Пиесу-Барыню", аж половые и
потолочные матицы ухали ему в лад!
Сколько я помню то время, отца постоянно "сватали" в партию, а он все
отнекивался:
- Пока, дорогой товарищ, я до этого - не дорос, не дозрел. Да и то правда -
некогда мне рассиживаться на собраниях. Кто ж за меня будет махать топором,
ежель я подамся в краснобаи?
На что однажды один ретивый райкомовский уполномоченный (которых после
войны уже нарекут "толкачами") на его очередной отказ вступить в ряды ВКП(б)
раздраженно высказал ему:
- Однако ж, ты, Мастак, как я погляжу - размазня на постном масле... Не
понимаешь, в какое время живешь. Гляди, не пожалей...
- Нет, пока до этого я еще - не дорос, не дозрел, - гнул свое отец,
замороченный темными намеками прилипчивого наставителя.
Но, как Мастак ни упрямился, ни упирался, а задвинули-таки его в
председатели с оговоркой по его настоянию - с записью в протоколе общего
собрания: "временный".
Так, не по своей воле, его отрешили от любимого дела - с утра до вечера, в
жару и стужу - махать топором да перекатывать бревна, как карандаши. Двумя
годами ранее за строительство - "образцовых" - коровника и конюшни он, как
бригадир плотницкой бригады, на областном слете ударников был премирован
патефоном Первого гатчинского завода с тремя пластинками в придачу: "Дударь,
мой дударь", в исполнении Ольги Ковалевой; шотландской застольной "Выпьем, ей-
Богу, еще!" и боевым маршем в честь дальневосточного командарма Блюхера,
награжденного орденом "Красного Знамени" N1, "Бейте с неба, самолеты, - в бой
идут большевики!" И тот же марш сразу стал для частовских мальчишек любимой
песней - уж больно она задорно горлопанилась и шлепко топалось под нее босыми
следами...
После того, как первого частовского председателя Егора Мельникова какая-то
страшная болезнь - парализовало всю правую сторону тела - уложила надолго в
областную клинику, дела в колхозе имени Клима-Лошадника круто покатились под
гору. За это время сменилось несколько председателей - и все не в коня корм.
Да и кормить скотину в ту зиму, когда отец принял разоренное хозяйство, в его
"образцовых" коровнике и конюшне было нечем. И поневоле ворошиловцам во главе
с новым председателем-плотником пришлось стать застрельщиками по нововведению.
Вместо сена стали задавать в ясли гольем "витамины": еловый лапник и березовые
голики.
Надо было готовиться к весеннему севу - пахать-боронить, а изморенных
донельзя, облишаенных лошадей нещадно косил страшный мор - сап с мытом. На
деревню был наложен строжайший карантин, по которому - ни выехать, ни въехать
не моги в Частову...
Из песни слов не выкинешь: не лучшим было и прошедшее лето. От зачумления
людей революционным "зудом" деревня недосчиталась трех непоследних мужиков. И
первым пал длинноногий, как журавель, Яков Прокофьев, по-деревенскому
прозванию: Бело-Красный. Бывший кавалерист Белой и Красной армий,
заупрямившийся в свое время - со всеми вместе - "дружно" вступить в колхоз, а
стало быть и встать в первые ряды ворошиловцев. Может, и одумался бы упрямец -
вступил по доброй воле в колхозные чертоги, куда ж деваться человеку, как
загнанной в засеку лошади, если, куда ни глянь, будто в песне: "Все кругом -
колхозное, все кругом - твое!" И тут же про себя талдычил: "Только - не свое,
и не мое..."
Но он сам подторопил свою планиду-злодейку. Как-то перед Спасом, после
полуденного воскресного чая с черничными сканцами, выкатился из-за стола к
себе в подоконье - освежиться на воздухе, и видит такую картину. По всему краю
деревни издивляются сельчане, вперясь гляделками в чистое небо. А старухи, так
те крестились, словно перед кончиной света, видя, как на деревню, со стороны
леса Борти, будто бы с поля выплывала огромная светло-мышастая корова-барка с
отвислым грузным выменем, которым, казалось, сердешная, вот-вот заденет за
шишаки ельника. На наеденном круглом боку отчетливо виднелось клеймо из
больших синих букв, которое сипло считывал - выказывая, каков он грамотей! -
старый бобыль Ероха, не знамо откуда прибившийся к деревне:
- Сы Сы Сы Ры... (вот и догадайся, какой светло-мышастый зверь крался к
деревне из "Гнилого угла"?)
И тут Бело-Красный, бывалый рубака всех последних войн, зычным голосом внес
ясность:
- Не дрейфьте, православные! Это дирижабль летит... - И, зло сплюнув,
съязвил, скорее по привычке, чем для чужого длинного уха. - Ишь, раскатывается
партейная неработь по небу букашками.
И верно, вместо вымени в подбрюшье "коровы-барки" висела корзина, из
которой выглядывали, как грибы, какие-то человечки.
- Ох уж эти большевички, - продолжал негодовать бывший бывалый рубака. -
Раскатываются по небу себе в удовольствие, а то, что на земле лошади дохнут от
заразы, им - хоть бы хны!
Эти слова были кем-то услышаны и доложены - куда следует в свободном
пересказе: Бело-Красная долговязая калягань прилюдно обзывал, мол, отважных
большевиков - "букашками".
Так строптивый Яков Прокофьев (стоявший грудью в первую мировую войну за -
царя-батюшку, в революцию занял сторону - большевиков, в гражданскую махал
шашкой направо и налево сперва за - белых, затем за - красных; потом снова за
- белых, и снова за - красных) из-за вздорного характера и не доносил
форсистые штаны с лампасами. Бедолага по простоте своей укатил, будто в
ночное, в недобрый час, на "бешеном воронке" в - Никуда. И сразу с концами,
оставив на краю деревни, в крашеном доме, чернявую жену Веру из плодовитого
древа Жуковых (сестра пятерых братанов и мать пятерых детей, мал мала меньше).
Вдогон Бело-Красному оракулу прокатились на том же "бешеном воронке" вскоре
и Никитины: медвежатый отец Матвей-Молчун и его женатый рослый красавец сын
Николай, который от Бога был еще и заядлым лошадником. Он и в колхоз-то
вступил только из-за своего холеного жеребца Циклона, обобществленного
закоперщиками новой "жисти" на разжив-почин свежеиспеченного колхоза...
Боялся, что тот попадет в чужие нерадивые руки. И златогривый любимец погубил
своего бывшего хозяина в его новой ипостаси. В необузданной страсти при его
могуте он оказался не по силам лягливой кобыленке с расхристанного подворья
бывшего частовского предкомбеда. Чагривая темно-пепельной масти, после
покрытия жеребцом Циклоном, сделала выкидыш. И вся вина в этом пала на
молодого завконефермы - за его "родственные связи" с производителем. Ясное
дело, что тут таился какой-то враждебный кулацкий подвох.
И укатали частовского красавца-лошадника его благие помыслы (хотел через
своего жеребца в паре с чагривой вывести особую породу лошадей - колхозную!)
по вымощенной дорожке в ад. Переворачиватели мира не посчитались, что жена
Николая Матвеевича, Нина Ивановна, как порука мужу, была деревенской
учительницей, вразумляла начальной грамоте их же неслухов. Нет, не
посчитались!
Это случилось летом - на Казанскую. А после Покрова, темной ночью, умыкали
из деревни и его медвежатого отца. Матвей-Молчун всегда слыл в деревне
справным мужиком, хотя бы потому, что ел свой хлеб до нови.
В доколхозное время он с зари до зари "зверюгой" корчевал на вырубках пни -
готовил пашню. Через это летом, экономя время, даже не ходил в баню -
обходился рекой. Но вот на уговоры же вступить в колхоз, чтоб уже ломить
сообща - стократной силой, на него находило какое-то затмение. Казалось,
мужика вот-вот хватит столбняк - мычал что-то невразумительное: "Знаш-понимаш,
понимаш-знаш, обченаш..." Вот и весь его был ответ на "обчественное" ведение.
Собрание хохотало и с миром отпускало домой. Ступай, мол, тугодум, и покумекай
еще раз у родной печки, может, она что-то и присоветует тебе, как дальше быть?
Так и жил мужик в тревоге.
Но вот на державном олимпе новые боги мудро и решительно начертали: "Кто не
с нами, тот - против нас!" И когда раскаты их громов докатились до берегов
бегучей реки, не стало на частовских нелегких белых подзолах трудяги-Молчуна.
Да, пропал земляной червь, Матвей Никитин, ни за понюх табаку...
Вот в какое, видно, спосланное самим Богом, проклятое время взвалил на свои
могутные плечи бремя забот мой беспартийный отец, пока выдвиженец райкома,
срочно принятый в ряды ВКП(б), проходил председательскую выучку в областной
Совпартшколе.
Но как бы там ни было, жизнь в деревне на этом не кончилась. Плохо, хорошо
ли, весной отсеялись в сроки. Памятуя о прошедшей зимней бескормице, и к
сенокосу подошли серьезно. Тут, видно, сказалась заслуга нового председателя-
плотника, который, готовясь к луговой страде, сделал перенасадку своей косы на
литовку самого большого размера, а само косовье пустил длиннее обычного. А
когда подоспела пора отбивать на заулках косы, он не стал созывать общее
собрание, как было принято, а пошел по подворьям, где в разговорах с хозяевами
напоминал им крестьянскую заповедь, уже напрочь забытую в колхозное время:
"Коси, коса, пока роса: роса долой - косарь домой". И от себя добавлял: "Да и
косить по холодку под задорные наигрыши дергачей - азартнее выйдет!"
А на восходе солнца он встал впереди косарей и пошел, враскорячь, махать
литовкой двойным прокосом, благо силушкой не был обижен Богом. Ну, а для
настроения во время перекуров у него, запевалы деревни, про запас имелись
песни. А без них - какой же сенокос на Руси?
В то лето - на удивление - не подкачал и лен. Когда его поля разлились
голубыми озерами цветения, председателю-мастеру втемяшилась в голову затея -
замахнуться на деревянную машину. Да не на какую-то там самоделку-безделицу,
что-то вроде "вечного двигателя". А на самый что ни на есть настоящий агрегат-
льнотрепалку, приводимую от конного привода, чертеж которой был напечатан во
всесоюзной газете "Соц. Земледелие".
Помимо всего прочего, что мог сделать столяр-плотник, нужны были крепежные
болты и простейшая ременная трансмиссия для передачи вращения от конного
привода к двум брусам-валам с посаженными на них по четыре маховых деревянных
колеса, к которым крепились бы нагелями по восемь тонких изящных трепал... Тут
хоть имей пять пядей во лбу, а без кузнеца не обойтись...
С такой вот непростой заботушкой в разгар лета, ближе к вечеру, и пожаловал
с поллитровкой в кармане частовской председатель-косарь в Заречье. На бывший
столыпинский отруб Новинка в двух верстах от деревни - вниз по течению к
известному, как и он, всей округе мастеру, но уже железных дел, Ивану-Кузнецу.
И там у них, за хлебосольным столом, состоялась тайная "вечеря". На то был
свой резон. В том крутом году им, уважаемым селянам, настрого было заказано
что-либо делать помимо колхозной работы: одному - строгать, другому - ковать,
чтобы - Боже, упаси! - не возродили частного промысла. Закоперщики новой
"жисти", во хмелю вседозволенности, уже зарились и на своих селянских
умельцев, замысливая, если не раскулачить, то - "обобчествить их струмент для
обчего пользования". На деле же вышло гораздо проще: расхватали бы все на-
шарап - кому что достанется. Потом иззубрили бы руками неумех и выкинули на
задворки за ненадобностью.
Открываться же мастерам до поры до времени не хотелось: а вдруг их
дерзостная затея обернется пшиком на радость местным зубоскалам? Да на том и
ударили по рукам, порешив: творить свою задумку будут - на свой страх и риск -
ранними да поздними упрягами, чтобы не вышло в ущерб колхозной работе. И что
немаловажно, а это и было для них главное, пока пронырливые лежебоки валяются
у себя в постелях под пологами, строгая на зорьке в усладу со своими
беззаботными марьюшками себе подобных "пестухов". А так как столяр-
председатель жил на юру лесного ручья, делившего деревню на два края -
Козляевский и Аристовский, то и строгать-пилить ему пришлось у себя в столярне
за занавешенными дерюжными покрывалами окнами.
И их тайно рожденное детище закрутилось-завертелось, ни раньше, ни позже, а
точно подгадало явиться на свет Божий - к октябрьским торжествам: другого
срока для завершения любого дела - уже не мыслилось. На тогдашней
"презентации" деревенской "фабрики" частовской Мастак не без бахвальства
высокопарно сказал на стихийном сельском сходе:
- Дорогие наши труженицы, принимайте в услужение себе деревянную помощницу
- на восемь персон! - Частовские, они - такие: и делом, и словом любили
козырнуть.
Например, старый одноногий гармонист Никанорыч - инвалид русско-японской
войны девятьсот четвертого года - объявлял плясовую непременно с городским
форсом: "Дык, уважаемые, пиеса "Барыня"!" Но и то правда, Частова всегда
славилась гармонистами, не менее, чем плотниками. Но свадебным гармонистом в
деревне был все-таки один - Никанорыч, которого так и величали с любовью: "Наш
Пиеса-Барыня!"
Макет той чудо-льнотрепалки стал достоянием первой Всесоюзной
сельхозвыставки в Москве. За участие в ней отец был премирован велосипедом
Первого московского велосипедного завода.
Но это будет все потом, в следующем году. А тогда, вскоре после такого
волнительного события в деревне с льнотрепалкой, отец наконец-таки сдал свои
"временные" председательские хлопоты выученику Высшей вэкэпэбэвской областной
школы. (Но, как покажет время, не в коня корм пошел. Весной его поменяли снова
на мало-мальски оклемавшегося кособокого Мельникова, который будет тянуть
нелегкий председательский воз еще целых два десятилетия).
Мне запомнилось, как отец на общем собрании в клубе - после отчета и его
перевыборов - винился перед однодеревенцами, показывая им свои тоскующие по
любимому делу ладонищи:
- Простите, люди добрые, ежели что не так получалось, как хотелось бы... Да
и то правда, не моими руками держать бумажки. Как ни осторожничал, все мятыми
получались... Да и на свет Божий, сами знаете, я явился не белоручкой - на
сенокосе в Березугах, когда мать-роженица моя заводила зарод стога, чтоб
метать сено...
И уже на другой день частовской Гаврила Мастак к большой радости его бывшей
плотницкой бригады, которая без своего одержимого бригадира как-то увяла
духом, вернулся к любимому делу, дарованному самим Господом - махать топором.
И планов у него было громадье - построить "образцовое!" овощехранилище: со
сквозным проездом и вытяжной вентиляцией. И уже к следующим октябрьским
торжествам оно в полном великолепии красовалось на бугре - за банями
Аристовского края.
На этом можно было бы поставить точку на житии частовского Мастака. Можно,
если бы был изжит до конца - проклятый тридцать восьмой, на излете которого он
был срочно вызван в райцентр.
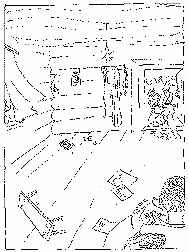 Домой отец вернулся где-то за полночь - усталым и донельзя взбудораженным.
И сразу же от порога, не раздеваясь, кинулся в горницу - к раме с семейными
фотографиями. Сорвал ее с гвоздя в простенке и извлек из-под стекла не очень
ясную любительскую карточку, на которой он был изображен в веселом
расположении духа с председателем Маловишерского РИКа - районный
исполнительный комитет - Иваном Федоровым, когда тот был еще начальником
Парнивского химлесхозовского пункта. Отец поставлял ему бочки под живицу,
которые мастерил зимними вечерами. С тех пор они и дружбу водили.
- Жена, живо - ножни! - выдохнул он с надсадом, нетерпеливо тряся
расшиперенной ладонищей.
Мать то ли со сна, то ли с перепугу (таким взбеленившимся, видно, она еще
не видела его) подала ему подвернувшиеся под руку овечьи ножницы. Ими-то отец
и отхватил от себя на карточке своего задушевного дружка-приятеля, который,
кружась, как палый лист, лег к его раскоряченным ногам. А уж они ли не любили
друг друга? Одних только песен у них было перепето за семейно-праздничными
столами столько! - ни в один парный воз на увяжешь...
А когда у свежеиспеченного предРИКа Ивана Матвеевича скоропостижно умерла
жена, оставив ему двух дочек (простудилась крупозным воспалением легких при
переезде на подводе в осеннюю распутицу к новому месту службы мужа), отец - по
истечении какого-то времени - сосватал ему в невесты первую красавицу деревни,
гармонистову дочку Катерину, свою крестницу.
Потом он широко шагнул к угловому столику, где стоял дарственный патефон с
открытой крышкой, сорвав с его круга мою любимую пластинку с боевым маршем
легендарного Первого Маршала Советского Союза: "Бейте с неба, самолеты, в бой
идут большевики!" И, к моему мальчишьему ужасу, разломил ее напополам, кидая
на пол.
- Папка, ты что - ошалел? - кинулся я к нему с плачем.
- Не убивайся, сынка... это уже - мусор Истории! Враги народа! - услышал я
в ответ какой-то чужой надрывный голос.
Оказывается, его и вызвал в район кто-то из доброжелателей к бывшему
хлебосольному председателю - "упредить", чтобы он убрал все улики каких-либо
связей с его уже теперь бывшим дружком-приятелем Федоровым, "разоблачение"
которого совпало по времени с "делом" маршала Блюхера.
Бабка Груша, метя веником пол, сокрушенно причитала:
- Вседержатель ты наш небесный, да неужто ты так ничегошеньки и не ведаешь,
што деется-то у Тебя тут, на Белом Свете?.. Выходит-таки, теперича на земле
перевелись все твои крещеные. Остались одни вороги - ведьминого опоросу!
От этих слов отец аж вздрогнул, замотав головой, будто здоровенный бык на
заклании, очухавшийся от удара в межрожье деревянной долбней, которой глушат
рыбу на мелководьях по первольду. Он подбежал к бабке и выхватил из-под ее
веника "мусор Истории", который сложил все вместе - обе половинки запретной
фотокарточки и порушенные полукружья пластинки и тут же упрятал на дно
старинного, красного дерева, китайского чайного ларца, где хранились в
неистребимых ароматах чая домовые "ценные бумаги". Квитанции нескольких лет на
сданные - "за так" - сельхозпродукты: картошки, мяса, молока, яиц, шерсти. И
еще полагалось ежегодно сдать с подворья по две свежепосоленные шкуры, про
которые мужики с опаской шутковали промеж себя: "Одну, хозяин, сдери с себя, а
другую - с женки своей, и будут квиты с государством."
В том же ларце хранились - вместо денег - и никогда не выигранные облигации
ежегодных оборонных займов "ОСОАВИАХИМа".
И, словно смертельно раненный медведь, облапив руками голову, он заметался
по горнице, распаляя себя каким-то нечеловеческим ревом:
- Не верю! Не ве-ерю-ю!
Вот тогда-то я и увидел его - такого огромного мужичища - впервые в
слезах...
* * *
Приметив у отца свежую синеву на висках, я стянул с его головы кепку и - не
узнал своего любимого Коня Горбоносого без его, такой знакомой для меня, косой
черной челки прямых волос ( он никогда не зачесывал волосы назад). И вот,
желая развеселить как-то его, все еще стоящего надо мной на коленях, я шлепнул
ладошкой по стриженой маковке:
- Какой смешной-то ты, папка... как огурец стал!
- Так легче считать будет нас, сынка, - отшутился отец. И поднявшись с
колен, серьезно добавил. - К тому ж, огуречным чохом смелее будет ходить в
атаку. - А насухо утерев кулаком глаза, он резко передернул плечами и
посетовал мне, как ровне своей. - Фу, как разнюнился, аж с души воротит... Ну,
а мамке-то об этом совсем не обязательно говорить. Так уж как-то само
получилось.
- Папка... Конь Горбоносый! да матюгнись ты, как следно, и тебе -
полегчает, - дал я совет по-свойски, как у нас было заведено шутить.
(Отец не любил, да и не умел сквернословить: при его могутной стати с его
величавым горбатым носом божьего воина на длинном лошадином обличии было как-
то - "не к лицу". А если когда бывало и вспылит: "Маткин берег - батькин
край!" - разве это матюг?)
От такой сыновьей подсказки отец снова сграбастал меня в свои сильные
объятия и, вскочив на ноги, закружился на заулке со мной на руках, как с
маленьким, громко, сквозь слезы, не то плача, не то хохоча:
- Сынка, я и не догадывался, какой чудной-то ты у меня растешь!.. - И мне
казалось, что я не на двух руках сижу, а верхом кружусь на грохочущем весеннем
громе и на мою двухвихровую маковку льется теплый дождь из отцовских слов. -
Да как же мне теперь, кровушка ты моя, расстаться-то с тобой, а?
И вот, как бы "понарошке" всласть поборовшись, как когда-то любили
дурачиться в ожидании ужина, мы продолжили извечное мужское дело - запрягать
лошадь. Отец незаметно подмогнул перекинуть дугу на другую сторону, и у меня
сразу дело пошло на лад. А когда я стал засупонивать клещи хомута, он
подсказал завязать супонь на "бантик". И показал, как это делается:
- Это тебе, сын, "узелок" на память. Мало ль какая беда может приключиться
в дороге...
(А вот как расстались мы с ним в последнюю минуту, у меня начисто выпало из
головы, о чем буду потом жалеть всю жизнь. Только одного не знал я тогда, а
сколько ж этой жизни мне будет отмерено в рушащемся мире?)
Очнулся я в горьких слезах, лежа ничком в телеге (видно, уложил в нее меня
отец при своем уходе), от громовой духовой музыки, которая трубно выговаривала
словами:
"Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне..."
Видно, частовские неуемные певуны, уходя в свое Бессмертие, достали-таки
своей полюбившейся песней до самых печенок городских железнодорожных трубачей,
которые с ходу подхватили запоминающуюся мелодию.
Там же тревожно и прерывисто гудели, как бы остановившиеся, паровозы. И
только один протяжный гудок удалялся в сторону Мстинского моста: подальше от
войны... Это маловишерцы, а с ними и наши частовские мужики и парни уезжали в
Череповец - на формирование. Чтобы уже через день-другой пуститься в обратный
путь - на Запад: навстречу своей грозной неминучей планиде.
Посреди заулка в великой скорби стояла старуха, прогнавшая меня утром с
крыши дома. Застигнутая музыкой на полдороге к огороду, она вслушивалась в
убывающий печальный гудок, истово крестилась и вполголоса просила небеса:
- Спаси и оборони их - от всех напастей и напрасных смертей...
Мельников вернулся ко мне, куковавшему на Поперечной улице, уже поздно, еще
больше прежнего, как мне погляделось, кособочась и приволакивая парализованной
ногой. И правая рука висела - плеть-плетью. От его прокуренных усов попахивало
и винцом, что говорило: частовской председатель проводил на войну своих
однодеревенцев - честь по чести. Понюхавший вволю пороху и отравляющих газов в
первую мировую, а затем и в гражданскую, он, как и мой отец, ошарашил меня
незнакомыми словами войны:
- Раз объявлена "тотальная мобилизация", видно, теперь не скоро закончится
эта кровавая катавасия... Ох, не скоро, - сказал он устало, скорее для себя,
словно бы продолжая разговор на вокзале с провожающими после проводов земляков
района.
Широко оглядев над головой небо и убедившись, что оно было пусто в его
близости, он снова тяжко вздохнул и только после этого соизволил узреть меня:
- Ну вот, родный (дядька Егор всех так называл: "родный, родная"), и
остались теперь мы, тыловики: старые да малые.
С этими тяжкими думами мы и снялись со двора Поперечной улицы, которых в
деревенском городке районного масштаба было - ни много, ни мало - тринадцать.
Одинаковых, как две капли воды: с голубыми палисадниками, полнившимися
роскошными шапками георгинов, - летом и осенью с непролазной грязью проезжей
части улиц. А так как стояла макушка небывало жаркого лета, то и ехали мы по
затравенелой улице к себе домой в начисто обезмужиченную деревню, как сказал
дядька Егор, "крепить тыл обороны страны".
Вотчину маловишерских железнодорожников - деревню Глутно мы проехали уже с
первыми петухами. Морило в сон. Лошадь, воспользовавшись попустительством
юного ездового, брела сама по себе, хватая на выбор макушки высоких трав,
росших по краю канавы. Дядька Егор, не выдержав такого дорожного
разгильдяйства, потребовал своей председательской властью - навести порядок:
- Да ожги ты ее, каналью, кнутом!
Я хватился было за кнут - и не нашарил его в телеге, чем в конец
раздосадовал Мельникова:
- Потерял, что ли?.. Да остаться в дороге без кнута так же зазорно, как и
потерять спьяну шапку. - И чихвостил он меня, пока комарье, озверевшее на
восходе солнца, не загнало его с головой под домотканое дерюжное покрывало.
Не выдержав комариного содома, я тоже вскоре убрался под покрывало. Так и
ехали мы - от Глутна до Селищи, кимаря втемную под трескучие наигрыши ночных
луговых музыкантов-дергачей, пока я не прохватился от дикого ржания лошади,
ломкого хряста кустовья и всполошенных криков председателя, которого как бы
угораздило ухнуть куда-то в преисподнюю:
- Ой-ой, мать твою!..
Так оно и случилось. Лошадь, предоставленная сама себе, рванула вскачь под
гору Крутого Ручья, а опущенные вожжи, намотавшись на замазученную дегтем
ступицу переднего колеса, резко затянули ее на сторону. И мы с полного маху
ухнули с кручи насыпи перемычки вниз, где телега, разъявшись с передками,
повисла кверху колесами на сломанных ольшинах. Дядька Егор, слышно было, в
жерле оврага брязгался в воде, чертыхаясь и кляня все и вся на свете. Я же
оказался перед самой мордой лошади, которая вместе с передками лежала на боку,
удушливо храпя и беспомощно лягаясь в воздухе ногами.
Вот тут-то и сгодился мне отцовский "узелок на память". Я дернул за конец
супони, завязанной на "бантик", и лошадь сама распряглась. Затем и встала на
ноги, с благодарностью отфыркиваясь. А я тем временем скатился вниз -
вызволять из жерла оврага знаменитого на весь район Мельникова.
Потом немощного председателя - под руку и охромевшую лошадь - в поводу я
повел на дорогу, выискивая пологость вздыма. Будто из окружения, мы
пробирались по тучному, рослому дудняку. Дядька Егор, до нитки мокрый и все
время оскользываясь и спотыкаясь лядащими ногами, шел и костил меня на чем
стоит свет:
- ...Мужик ты еще херов, вот ты кто! - И с этими словами зашелся навзрыд,
словно бы жалуясь солнцу, уже рассевшемуся на макушках елок над обочью оврага.
- Да с кем я теперь остался-то, а? Как жить-воевать теперь будем, а?
Кружным путем, наконец, выйдя на дорогу, мы принялись вызволять телегу из-
под кручи с помощью лошади. По подсказке моего, пожившего на свете, путника я
приладил к гужу распущенные вожжи и на них мы - с великими трудами - подняли
на насыпь перемычки сперва передки, а затем и саму телегу...
И кому было знать, что Крутой Ручей между деревень Глутно и Селищи в
двадцати верстах от Частовы (через Подмошские болота с обитаемыми
старообрядческими скитами) вскоре станет необоримой преградой для
победоносного шествия на Восток грозного врага. В одну из ранних морозных
ночей немцы, перейдя по первольду Волхов, на рассвете ворвутся в Малую Вишеру,
замысливая сходу выйти во второй эшелон обороны уже определившегося
Волховского фронта. К реке Мста, где правый ее берег - мы, мальчишки, старшие
сестры и наши матери (и не только Частовы, но и всей глубинной округи),
отложив все колхозные дела, с начала июля и до половины августа, под началом
молоденького лейтенанта с перевязанной рукой на черной помочи на груди,
подпоясывали, будто широким солдатским ремнем - противотанковым рвом. А когда
он был готов, оказалось, по каким-то военно-стратегическим просчетам,
укрепляли не тот берег. И все наши праведные труды - пошли коту под хвост. То
есть не в пользу обороняемых, а против них. Мы обустраивали, как нам внушал
наш раненый лейтенант и его проверяющие со "шпалами" и саперно-инженерными
знаками отличия в петлицах, по всем правилам военного искусства, правый берег,
а на поверку вышло, надо было б кромить заступами и ломами - левый:
неподатливый каменисто-глинистый Грешневский кряж. Левый, черт побери,
левый!.. Ну да, что там, задним-то умом мы все крепки.
Так в начале ранней зимы сорок первого немцы нежданно-негаданно оказались у
Крутого Ручья, где всю ночь будет греметь жаркий бой, в котором непрошеных
гостей отбросят на станцию. А через какое-то время их снова водворят за реку
Волхов в сырые окопы, в которых они потом будут воевать-горевать без малого
три года.
Рубеж у Крутого Ручья отстаивал и наш частовский красноармеец Филипп
Голубев, который еще совсем недавно толково командовал бабьей ратью
овощеводческой бригады, непревзойденный косарь-машинист на сенокосилке, отец
троих чад.
За отличие в том сражении ему была предоставлена краткая побывка в родных
палестинах при личном оружии. Помню, как он в морозных сумерках, весь
заиндевелый, поднялся на припорошенный первым снегом частовской кряж с
окровавленной повязкой на голове, видневшейся из-под шапки, с отечественным -
в диковину - автоматом на плече, на ремне - кинжал-штык, а на груди совершенно
новенькая медаль "За отвагу", которую, видно, перед деревней перецепил с
гимнастерки прямо на нагольный полушубок, чтобы все видели, что он не просто
Филипп Ионыч, а защитник Отечества! И нам, мальчишкам, сразу загорелось - хоть
завтра! - пойти добровольцами в Красную Армию...
Но если сказать откровенно, первыми, кто выиграли бой уже на второй день
войны у Крутого Ручья Волховского фронта, еще не значащегося ни в каких
оперативно-стратегических планах - ни в наших, ни во вражьих штабах, это были
мы с дядькой Егором. Вызволяя из-под кручи телегу, давясь слезами и соплями, я
разом отыграл все свои мальчишьи забавы. С этого утра я уже стал мужиком и все
колхозно-оборонные работы деревни теперь станут и моими работами, пока не
кончится война. А когда она кончится, еще никто об этом не загадывал...
Мельников, глядучи со слезами на глазах на мою путанную расторопность,
видно, воспрял духом, уверяясь, что еще будет ему с кем "крепить тыл обороны
страны":
- Ну, родный, гляжу, с тобой не пропадешь, - сказал он, посмеиваясь своими
карими, с теплиной, глазами. - Хошь и прокатил ты председателя с ветерком по
кустовью да овражью, но и сметку крестьянскую не запамятовал. И как это ты
сумел догадаться ментом рассупонить лошадь-то вовремя? Не сделай этого враз -
могла б и задохнуться. Ничего не скажешь - мужик, молодчага!
- А-а-а, - махнул я рукой и нарочито обыденно ответил: - Вспомнил папкин
"узелок на память". Делов-то!
- Ишь ты, - удивился Егор Екимыч, - это горазд хорошо, когда есть чем
вспомнить своего папку.
Вот уже осталась позади, после Крутого Ручья, опрятная деревня Поддубье,
где живут скуповатые и ходкие на ногу маловишерские "молоконосы", которым с
берестяными заплечными кошелями на три четвертных бутыли десять верст до рынка
- не расстояние.
Как только въехали в частовские заречные угодия новинской бригады,
Мельников, уже обсохший на все жарче разгорающемся солнце ядреного лета,
обратился ко мне на полном серьезе, как к своей ровне:
- Дак, запевай, Гаврилыч, папкину любимую песню - она щас, как никогда,
кстати. Да и в деревне пускай слышат, наши, мол, едут! Так уж у нас,
частовских, было заведено от веку.
И он первым затянул своим дребезжащим, как расщепленное полено, голосом:
- Трансвааль, Трансвааль...
А в это время, как потом узнаем - в Первопрестольной, на Белорусском
вокзале, набирала силу уже другая, нашенская песня:
"Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!"
Вскоре мы получили от отца красноармейский привет - "треугольник". Первое и
последнее письмо, в котором он писал перед отправкой на фронт: срочно получил,
мол, "швейную машинку", а понимать надо было - "максима". Он был кадровым
пулеметчиком во время военных сборов на переподготовку, и "максим" ему был по
плечу.
А уже в середине августа, на частовской престол - яблочный Спас, Мастака-
пулеметчика не стало. Погиб на Ленинградском фронте... Правда, об этом мы
узнаем уже после войны из посмертного извещения, в котором говорилось, что он
погиб "смертью храбрых" под Красным Селом.
В те же срединные августовские жаркие дни сорок первого пал и наш
златоглавый Вечный Град - Новгород, вознесясь в небо в аспидно-жирных свивах
чада, терпко пропахшего темными веками...
Домой отец вернулся где-то за полночь - усталым и донельзя взбудораженным.
И сразу же от порога, не раздеваясь, кинулся в горницу - к раме с семейными
фотографиями. Сорвал ее с гвоздя в простенке и извлек из-под стекла не очень
ясную любительскую карточку, на которой он был изображен в веселом
расположении духа с председателем Маловишерского РИКа - районный
исполнительный комитет - Иваном Федоровым, когда тот был еще начальником
Парнивского химлесхозовского пункта. Отец поставлял ему бочки под живицу,
которые мастерил зимними вечерами. С тех пор они и дружбу водили.
- Жена, живо - ножни! - выдохнул он с надсадом, нетерпеливо тряся
расшиперенной ладонищей.
Мать то ли со сна, то ли с перепугу (таким взбеленившимся, видно, она еще
не видела его) подала ему подвернувшиеся под руку овечьи ножницы. Ими-то отец
и отхватил от себя на карточке своего задушевного дружка-приятеля, который,
кружась, как палый лист, лег к его раскоряченным ногам. А уж они ли не любили
друг друга? Одних только песен у них было перепето за семейно-праздничными
столами столько! - ни в один парный воз на увяжешь...
А когда у свежеиспеченного предРИКа Ивана Матвеевича скоропостижно умерла
жена, оставив ему двух дочек (простудилась крупозным воспалением легких при
переезде на подводе в осеннюю распутицу к новому месту службы мужа), отец - по
истечении какого-то времени - сосватал ему в невесты первую красавицу деревни,
гармонистову дочку Катерину, свою крестницу.
Потом он широко шагнул к угловому столику, где стоял дарственный патефон с
открытой крышкой, сорвав с его круга мою любимую пластинку с боевым маршем
легендарного Первого Маршала Советского Союза: "Бейте с неба, самолеты, в бой
идут большевики!" И, к моему мальчишьему ужасу, разломил ее напополам, кидая
на пол.
- Папка, ты что - ошалел? - кинулся я к нему с плачем.
- Не убивайся, сынка... это уже - мусор Истории! Враги народа! - услышал я
в ответ какой-то чужой надрывный голос.
Оказывается, его и вызвал в район кто-то из доброжелателей к бывшему
хлебосольному председателю - "упредить", чтобы он убрал все улики каких-либо
связей с его уже теперь бывшим дружком-приятелем Федоровым, "разоблачение"
которого совпало по времени с "делом" маршала Блюхера.
Бабка Груша, метя веником пол, сокрушенно причитала:
- Вседержатель ты наш небесный, да неужто ты так ничегошеньки и не ведаешь,
што деется-то у Тебя тут, на Белом Свете?.. Выходит-таки, теперича на земле
перевелись все твои крещеные. Остались одни вороги - ведьминого опоросу!
От этих слов отец аж вздрогнул, замотав головой, будто здоровенный бык на
заклании, очухавшийся от удара в межрожье деревянной долбней, которой глушат
рыбу на мелководьях по первольду. Он подбежал к бабке и выхватил из-под ее
веника "мусор Истории", который сложил все вместе - обе половинки запретной
фотокарточки и порушенные полукружья пластинки и тут же упрятал на дно
старинного, красного дерева, китайского чайного ларца, где хранились в
неистребимых ароматах чая домовые "ценные бумаги". Квитанции нескольких лет на
сданные - "за так" - сельхозпродукты: картошки, мяса, молока, яиц, шерсти. И
еще полагалось ежегодно сдать с подворья по две свежепосоленные шкуры, про
которые мужики с опаской шутковали промеж себя: "Одну, хозяин, сдери с себя, а
другую - с женки своей, и будут квиты с государством."
В том же ларце хранились - вместо денег - и никогда не выигранные облигации
ежегодных оборонных займов "ОСОАВИАХИМа".
И, словно смертельно раненный медведь, облапив руками голову, он заметался
по горнице, распаляя себя каким-то нечеловеческим ревом:
- Не верю! Не ве-ерю-ю!
Вот тогда-то я и увидел его - такого огромного мужичища - впервые в
слезах...
* * *
Приметив у отца свежую синеву на висках, я стянул с его головы кепку и - не
узнал своего любимого Коня Горбоносого без его, такой знакомой для меня, косой
черной челки прямых волос ( он никогда не зачесывал волосы назад). И вот,
желая развеселить как-то его, все еще стоящего надо мной на коленях, я шлепнул
ладошкой по стриженой маковке:
- Какой смешной-то ты, папка... как огурец стал!
- Так легче считать будет нас, сынка, - отшутился отец. И поднявшись с
колен, серьезно добавил. - К тому ж, огуречным чохом смелее будет ходить в
атаку. - А насухо утерев кулаком глаза, он резко передернул плечами и
посетовал мне, как ровне своей. - Фу, как разнюнился, аж с души воротит... Ну,
а мамке-то об этом совсем не обязательно говорить. Так уж как-то само
получилось.
- Папка... Конь Горбоносый! да матюгнись ты, как следно, и тебе -
полегчает, - дал я совет по-свойски, как у нас было заведено шутить.
(Отец не любил, да и не умел сквернословить: при его могутной стати с его
величавым горбатым носом божьего воина на длинном лошадином обличии было как-
то - "не к лицу". А если когда бывало и вспылит: "Маткин берег - батькин
край!" - разве это матюг?)
От такой сыновьей подсказки отец снова сграбастал меня в свои сильные
объятия и, вскочив на ноги, закружился на заулке со мной на руках, как с
маленьким, громко, сквозь слезы, не то плача, не то хохоча:
- Сынка, я и не догадывался, какой чудной-то ты у меня растешь!.. - И мне
казалось, что я не на двух руках сижу, а верхом кружусь на грохочущем весеннем
громе и на мою двухвихровую маковку льется теплый дождь из отцовских слов. -
Да как же мне теперь, кровушка ты моя, расстаться-то с тобой, а?
И вот, как бы "понарошке" всласть поборовшись, как когда-то любили
дурачиться в ожидании ужина, мы продолжили извечное мужское дело - запрягать
лошадь. Отец незаметно подмогнул перекинуть дугу на другую сторону, и у меня
сразу дело пошло на лад. А когда я стал засупонивать клещи хомута, он
подсказал завязать супонь на "бантик". И показал, как это делается:
- Это тебе, сын, "узелок" на память. Мало ль какая беда может приключиться
в дороге...
(А вот как расстались мы с ним в последнюю минуту, у меня начисто выпало из
головы, о чем буду потом жалеть всю жизнь. Только одного не знал я тогда, а
сколько ж этой жизни мне будет отмерено в рушащемся мире?)
Очнулся я в горьких слезах, лежа ничком в телеге (видно, уложил в нее меня
отец при своем уходе), от громовой духовой музыки, которая трубно выговаривала
словами:
"Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне..."
Видно, частовские неуемные певуны, уходя в свое Бессмертие, достали-таки
своей полюбившейся песней до самых печенок городских железнодорожных трубачей,
которые с ходу подхватили запоминающуюся мелодию.
Там же тревожно и прерывисто гудели, как бы остановившиеся, паровозы. И
только один протяжный гудок удалялся в сторону Мстинского моста: подальше от
войны... Это маловишерцы, а с ними и наши частовские мужики и парни уезжали в
Череповец - на формирование. Чтобы уже через день-другой пуститься в обратный
путь - на Запад: навстречу своей грозной неминучей планиде.
Посреди заулка в великой скорби стояла старуха, прогнавшая меня утром с
крыши дома. Застигнутая музыкой на полдороге к огороду, она вслушивалась в
убывающий печальный гудок, истово крестилась и вполголоса просила небеса:
- Спаси и оборони их - от всех напастей и напрасных смертей...
Мельников вернулся ко мне, куковавшему на Поперечной улице, уже поздно, еще
больше прежнего, как мне погляделось, кособочась и приволакивая парализованной
ногой. И правая рука висела - плеть-плетью. От его прокуренных усов попахивало
и винцом, что говорило: частовской председатель проводил на войну своих
однодеревенцев - честь по чести. Понюхавший вволю пороху и отравляющих газов в
первую мировую, а затем и в гражданскую, он, как и мой отец, ошарашил меня
незнакомыми словами войны:
- Раз объявлена "тотальная мобилизация", видно, теперь не скоро закончится
эта кровавая катавасия... Ох, не скоро, - сказал он устало, скорее для себя,
словно бы продолжая разговор на вокзале с провожающими после проводов земляков
района.
Широко оглядев над головой небо и убедившись, что оно было пусто в его
близости, он снова тяжко вздохнул и только после этого соизволил узреть меня:
- Ну вот, родный (дядька Егор всех так называл: "родный, родная"), и
остались теперь мы, тыловики: старые да малые.
С этими тяжкими думами мы и снялись со двора Поперечной улицы, которых в
деревенском городке районного масштаба было - ни много, ни мало - тринадцать.
Одинаковых, как две капли воды: с голубыми палисадниками, полнившимися
роскошными шапками георгинов, - летом и осенью с непролазной грязью проезжей
части улиц. А так как стояла макушка небывало жаркого лета, то и ехали мы по
затравенелой улице к себе домой в начисто обезмужиченную деревню, как сказал
дядька Егор, "крепить тыл обороны страны".
Вотчину маловишерских железнодорожников - деревню Глутно мы проехали уже с
первыми петухами. Морило в сон. Лошадь, воспользовавшись попустительством
юного ездового, брела сама по себе, хватая на выбор макушки высоких трав,
росших по краю канавы. Дядька Егор, не выдержав такого дорожного
разгильдяйства, потребовал своей председательской властью - навести порядок:
- Да ожги ты ее, каналью, кнутом!
Я хватился было за кнут - и не нашарил его в телеге, чем в конец
раздосадовал Мельникова:
- Потерял, что ли?.. Да остаться в дороге без кнута так же зазорно, как и
потерять спьяну шапку. - И чихвостил он меня, пока комарье, озверевшее на
восходе солнца, не загнало его с головой под домотканое дерюжное покрывало.
Не выдержав комариного содома, я тоже вскоре убрался под покрывало. Так и
ехали мы - от Глутна до Селищи, кимаря втемную под трескучие наигрыши ночных
луговых музыкантов-дергачей, пока я не прохватился от дикого ржания лошади,
ломкого хряста кустовья и всполошенных криков председателя, которого как бы
угораздило ухнуть куда-то в преисподнюю:
- Ой-ой, мать твою!..
Так оно и случилось. Лошадь, предоставленная сама себе, рванула вскачь под
гору Крутого Ручья, а опущенные вожжи, намотавшись на замазученную дегтем
ступицу переднего колеса, резко затянули ее на сторону. И мы с полного маху
ухнули с кручи насыпи перемычки вниз, где телега, разъявшись с передками,
повисла кверху колесами на сломанных ольшинах. Дядька Егор, слышно было, в
жерле оврага брязгался в воде, чертыхаясь и кляня все и вся на свете. Я же
оказался перед самой мордой лошади, которая вместе с передками лежала на боку,
удушливо храпя и беспомощно лягаясь в воздухе ногами.
Вот тут-то и сгодился мне отцовский "узелок на память". Я дернул за конец
супони, завязанной на "бантик", и лошадь сама распряглась. Затем и встала на
ноги, с благодарностью отфыркиваясь. А я тем временем скатился вниз -
вызволять из жерла оврага знаменитого на весь район Мельникова.
Потом немощного председателя - под руку и охромевшую лошадь - в поводу я
повел на дорогу, выискивая пологость вздыма. Будто из окружения, мы
пробирались по тучному, рослому дудняку. Дядька Егор, до нитки мокрый и все
время оскользываясь и спотыкаясь лядащими ногами, шел и костил меня на чем
стоит свет:
- ...Мужик ты еще херов, вот ты кто! - И с этими словами зашелся навзрыд,
словно бы жалуясь солнцу, уже рассевшемуся на макушках елок над обочью оврага.
- Да с кем я теперь остался-то, а? Как жить-воевать теперь будем, а?
Кружным путем, наконец, выйдя на дорогу, мы принялись вызволять телегу из-
под кручи с помощью лошади. По подсказке моего, пожившего на свете, путника я
приладил к гужу распущенные вожжи и на них мы - с великими трудами - подняли
на насыпь перемычки сперва передки, а затем и саму телегу...
И кому было знать, что Крутой Ручей между деревень Глутно и Селищи в
двадцати верстах от Частовы (через Подмошские болота с обитаемыми
старообрядческими скитами) вскоре станет необоримой преградой для
победоносного шествия на Восток грозного врага. В одну из ранних морозных
ночей немцы, перейдя по первольду Волхов, на рассвете ворвутся в Малую Вишеру,
замысливая сходу выйти во второй эшелон обороны уже определившегося
Волховского фронта. К реке Мста, где правый ее берег - мы, мальчишки, старшие
сестры и наши матери (и не только Частовы, но и всей глубинной округи),
отложив все колхозные дела, с начала июля и до половины августа, под началом
молоденького лейтенанта с перевязанной рукой на черной помочи на груди,
подпоясывали, будто широким солдатским ремнем - противотанковым рвом. А когда
он был готов, оказалось, по каким-то военно-стратегическим просчетам,
укрепляли не тот берег. И все наши праведные труды - пошли коту под хвост. То
есть не в пользу обороняемых, а против них. Мы обустраивали, как нам внушал
наш раненый лейтенант и его проверяющие со "шпалами" и саперно-инженерными
знаками отличия в петлицах, по всем правилам военного искусства, правый берег,
а на поверку вышло, надо было б кромить заступами и ломами - левый:
неподатливый каменисто-глинистый Грешневский кряж. Левый, черт побери,
левый!.. Ну да, что там, задним-то умом мы все крепки.
Так в начале ранней зимы сорок первого немцы нежданно-негаданно оказались у
Крутого Ручья, где всю ночь будет греметь жаркий бой, в котором непрошеных
гостей отбросят на станцию. А через какое-то время их снова водворят за реку
Волхов в сырые окопы, в которых они потом будут воевать-горевать без малого
три года.
Рубеж у Крутого Ручья отстаивал и наш частовский красноармеец Филипп
Голубев, который еще совсем недавно толково командовал бабьей ратью
овощеводческой бригады, непревзойденный косарь-машинист на сенокосилке, отец
троих чад.
За отличие в том сражении ему была предоставлена краткая побывка в родных
палестинах при личном оружии. Помню, как он в морозных сумерках, весь
заиндевелый, поднялся на припорошенный первым снегом частовской кряж с
окровавленной повязкой на голове, видневшейся из-под шапки, с отечественным -
в диковину - автоматом на плече, на ремне - кинжал-штык, а на груди совершенно
новенькая медаль "За отвагу", которую, видно, перед деревней перецепил с
гимнастерки прямо на нагольный полушубок, чтобы все видели, что он не просто
Филипп Ионыч, а защитник Отечества! И нам, мальчишкам, сразу загорелось - хоть
завтра! - пойти добровольцами в Красную Армию...
Но если сказать откровенно, первыми, кто выиграли бой уже на второй день
войны у Крутого Ручья Волховского фронта, еще не значащегося ни в каких
оперативно-стратегических планах - ни в наших, ни во вражьих штабах, это были
мы с дядькой Егором. Вызволяя из-под кручи телегу, давясь слезами и соплями, я
разом отыграл все свои мальчишьи забавы. С этого утра я уже стал мужиком и все
колхозно-оборонные работы деревни теперь станут и моими работами, пока не
кончится война. А когда она кончится, еще никто об этом не загадывал...
Мельников, глядучи со слезами на глазах на мою путанную расторопность,
видно, воспрял духом, уверяясь, что еще будет ему с кем "крепить тыл обороны
страны":
- Ну, родный, гляжу, с тобой не пропадешь, - сказал он, посмеиваясь своими
карими, с теплиной, глазами. - Хошь и прокатил ты председателя с ветерком по
кустовью да овражью, но и сметку крестьянскую не запамятовал. И как это ты
сумел догадаться ментом рассупонить лошадь-то вовремя? Не сделай этого враз -
могла б и задохнуться. Ничего не скажешь - мужик, молодчага!
- А-а-а, - махнул я рукой и нарочито обыденно ответил: - Вспомнил папкин
"узелок на память". Делов-то!
- Ишь ты, - удивился Егор Екимыч, - это горазд хорошо, когда есть чем
вспомнить своего папку.
Вот уже осталась позади, после Крутого Ручья, опрятная деревня Поддубье,
где живут скуповатые и ходкие на ногу маловишерские "молоконосы", которым с
берестяными заплечными кошелями на три четвертных бутыли десять верст до рынка
- не расстояние.
Как только въехали в частовские заречные угодия новинской бригады,
Мельников, уже обсохший на все жарче разгорающемся солнце ядреного лета,
обратился ко мне на полном серьезе, как к своей ровне:
- Дак, запевай, Гаврилыч, папкину любимую песню - она щас, как никогда,
кстати. Да и в деревне пускай слышат, наши, мол, едут! Так уж у нас,
частовских, было заведено от веку.
И он первым затянул своим дребезжащим, как расщепленное полено, голосом:
- Трансвааль, Трансвааль...
А в это время, как потом узнаем - в Первопрестольной, на Белорусском
вокзале, набирала силу уже другая, нашенская песня:
"Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!"
Вскоре мы получили от отца красноармейский привет - "треугольник". Первое и
последнее письмо, в котором он писал перед отправкой на фронт: срочно получил,
мол, "швейную машинку", а понимать надо было - "максима". Он был кадровым
пулеметчиком во время военных сборов на переподготовку, и "максим" ему был по
плечу.
А уже в середине августа, на частовской престол - яблочный Спас, Мастака-
пулеметчика не стало. Погиб на Ленинградском фронте... Правда, об этом мы
узнаем уже после войны из посмертного извещения, в котором говорилось, что он
погиб "смертью храбрых" под Красным Селом.
В те же срединные августовские жаркие дни сорок первого пал и наш
златоглавый Вечный Град - Новгород, вознесясь в небо в аспидно-жирных свивах
чада, терпко пропахшего темными веками...